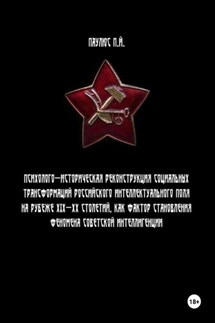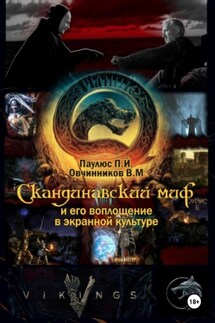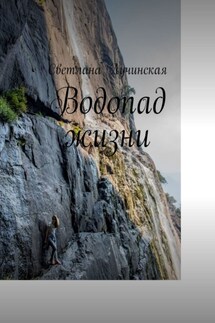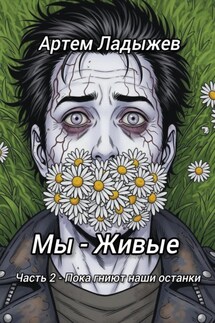Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 34
Лингвистическая концепция трактовала миф лишь как дисфункцию языка, связанную с потерей смысловой нагрузки ряда метафорических эпитетов, фигурировавших в древнейших языках. Таким образом, архаическая мифология может трактоваться в качестве одного из результатов исторического развития языка, основанного на антагонизме рационального и иррационального. Во многом подобная трактовка является своего рода продолжением философских идей просветителей. Э. Кассирер в работе «Миф о государстве» упоминает о позиции М. Мюллера следующее: «Мифология, таким образом, представлена как патологическая по происхождению и в своей сущности. Это болезнь, которая начинается в области языка и, как опасная инфекция, распространяется на всё тело человеческой цивилизации… Миф после всего представляет собой ничего кроме величайшей иллюзии, не сознательного, а неосознанного обмана, обмана, осуществленного природой человеческого мышления и, прежде всего, природой человеческой речи»212.
Рассуждения Мюллера демонстрируют начало гносеологического переворота в науке о мифе, в которой начинает абсолютизироваться положение о рассмотрении этого феномена в качестве результата интеллектуальной активности. Как подчеркивал российский исследователь того периода А.А. Потебня, «именно в сознании заключались причины, почему человеку периода мифов мир представлялся таким, а не другим»213. Александр Афанасьевич Потебня, будучи последовательным кантианцем, опираясь на исследования таких немецких исследователей, как Вильгельм Гумбольт, учитывал в рамках своей теории мифа принцип причинности рамках рассмотрения проблемы связи языка мышления. В подобном контексте он объяснял природу зарождения мифа как оформленной словесно мысли, подчеркивая при этом, что язык объективирует мысль. Миф, по его мнению, становится первым этапом соответствующего процесса, при этом поэзия как первичная форма искусства является порождением мифа, который, «подобно слову, есть не столько выражение, сколько средство создания мысли… цель его, как и слова, – произвести известное субъективное настроение как в самом производителе, так и в понимающем…»214. Кроме этого, Потебня четко разграничивает границы между мифом, искусством и наукой, считая необходимым учитывать этот факт: «Как мифы принимают в себя научные положения, так наука не изгоняет ни поэзии, ни веры, а существует рядом с ними, хотя ведет с ним в споры о границах»215. Представленный тезис актуален и на данный момент. В самом же мифе он видит не деструктивный процесс, а в первую очередь результат стремления к упорядочиванию в массовом сознании вопросов мироздания. Иными словами, миф – это форма самоидентификации субъекта познания, обеспечивающая его интеллектуальную активность, базовая форма донаучного познания: «В мифе образ и значение различны, иносказательность образа существует, но самим субъектом не сознается, образ целиком (не разлагаясь) переносится в значение… Миф есть словесное выражение такого объяснения, при котором объясняющему образу, имеющему только субъективное значение, приписывается объективность, действительное бытие в объясняемом. Таким образом, две половины суждения (именно образ и значение) при мифическом мышлении более сходны между собой, чем при поэтическом. Их различение ведет от мифа к поэзии, от поэзии – к прозе и науке»