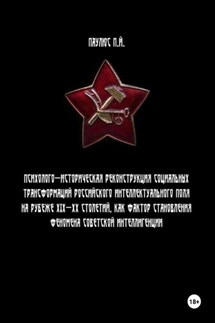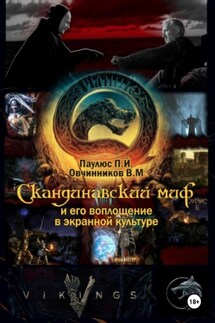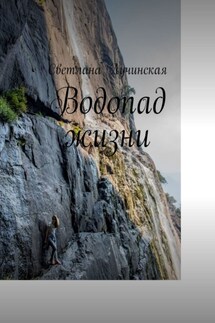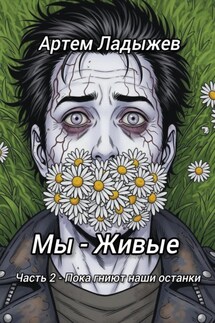Феномен мифа в пространстве современного культурного производства в контексте доминирования «скандинавской образности» - страница 35
Одной из вех развития позднего романтизма становится интеграция в концепт формирующейся «философии жизни» в рамках творчества Рихарда Вагнера как философа и теоретика искусства, сохранившего один из идеалов романтизма – превознесение роли художника в созидании грядущего, что проявляется борьбе героя с обезумевшей толпой, движимой бессознательностью человеческой природы. Остановить ее может миф, находящий воплощение в музыке. И если ее содержанием является мир человеческих чувств, ее органами – гармония и ритм, то сущностью выступает мелодия; именно «мелодия является полным выражением внутренней сущности музыки»219, воплощающей духовность народа. Миф же в описании Вагнера – это изначально религиозная форма, «поэма общего мировоззрения»220, обладающая пластической многогранностью, из которой проистекают искусства. Как следствие, «новый мир приобрел свою творческую силу из мифа»221. «Несравненно в мифе то, что он во всякое время остается правдивым, а его содержание – при наибольшей краткости – неисчерпаемым»222. Миф связан с музыкой глубоким, генетическим единством.
Вагнеровский тезис о связи мифа и музыки нашел свое развитие в творчестве Ф. Ницше, на которого столь же сильно повлияли шопенгауровские идеи о воле как первооснове. Продолжая развивать идеи своих «духовных учителей», Ницше рассуждает о деструктивности социокультурной эволюции, лишающей человека возможности гармонично взаимодействовать с окружающим миром за счет появления всё новых граней социального пространства, подчиняющих индивида своим интересам в условиях господства сциентизма, но в то же время мышление образно и метафорично. Именно эти механизмы обеспечивают связь с действительностью в отличие от научных абстракций, которые, по мнению мыслителя, являются лишь фикцией, и отнесение их к миру есть не что иное, как мифология. При этом любые умозаключения, относящиеся к сфере духа, это и есть мифология. Как утверждал Ницше, человек столь ничтожен, что не в силах познать истину, но он формирует миф о ее познании, выделяя лишь ее исключительную ценность. Миф всеобъемлющ, он может рассматриваться как «необходимый результат и даже за конечную цель науки»