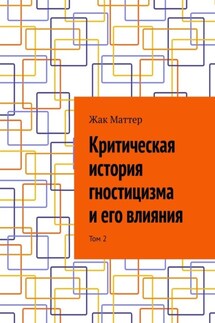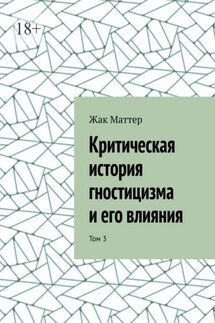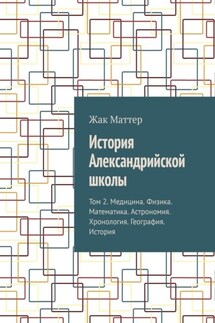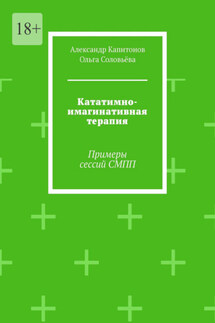Философия религии. Том 1. Наука о материальном мире - страница 31
«Различные доказательства существования Бога, – говорит один философ-теолог, – лишь обозначают те ступени, по которым ум поднимался к познанию Бога вне откровения, а аргументы лишь логически суммируют более или менее медленные пути, которыми шли. Главным образом, есть два пути, ведущих человека к Богу и познанию Его бытия: изучение мира и изучение себя. Изучение мира отражается в космологическом и телеологическом доказательствах; изучение себя – в онтологическом и этическом. Но ни один из этих путей не ведёт к истинному познанию Божественного существа, пока ему не сопутствуют свидетельства откровения, которые христианство пробуждает в нас и вокруг нас». (Мартенсен, «Христианская догматика», 3-е изд., стр. 94.) И это не просто утверждение теолога. Это факт: христианская религия внесла в лоно человечества и в теологическую науку своего рода интуицию Бога и близость с Ним, так что Иисус Христос мог сказать в полной истине: «Никто не знает Отца, кроме Сына и тех, кому Сын открыл Его». Христианское знание тем более прямо, позитивно и обладает Божественным Существом, что оно не ищет Его, не доказывает и не обосновывает Его – оно имеет Его, Он всегда был в сознании народа Божьего. (Евангелие от Иоанна 1:1; Послание к Евреям 1:1.) Некоторые тексты, кажется, отсылают: одни – к физико-теологическому доказательству (Деяния 14:17; Римлянам 1:20), другие – к онтологическому (Римлянам 1:19, 32; Деяния 17:24), третьи – к этическому (Римлянам 2:14). Но если так, то без какого-либо умысла. Для христианства доказательство существования Бога есть демонстрация, присущая духу человека и его естественной силе (ἀπόδειξις πνεύματος καὶ δυνάμεως). См. Ган, «Теология Нового Завета», «Существование Бога», т. I, стр. 75.
Чтобы склонить к теизму великих мира сего, иногда демонстрировали пользу или необходимость догмата о существовании Бога для обеспечения воспитания и управления народами. Вдохновлённые самыми благородными чувствами, эти педагогические и политические соображения, однако, имеют реальную ценность лишь постольку, поскольку опираются на изначально этическую природу человека; и тогда они обладают для некоторых умов такой же силой, как и другие. Впрочем, вполне естественно, что Божественное величие, Владыка всего и всех, принимает дань уважения любого рода и что каждый рад указывать на Него там, где находит Его.»
Нужно сказать, в конечном счете: на всех доказательствах бытия Божия, сколь бы сильными или ясными они ни были, лежит некая тень, пока они не подкреплены и не освещены здравой теорией о природе и атрибутах Существа всех существ. Дело в том, что, хотя они и проливают на Него некоторый свет, хотя и дают понятие о причине и абсолютном бытии, они, тем не менее, раскрывают лишь некое отвлеченное представление; и если они не оставляют сомнений в умах относительно того, что Бог существует, то оставляют неясность в этом главном вопросе: Каков Он?
Кроме того, тот факт, что большинство этих доказательств принимается самыми разными системами, показывает, насколько смутны и пусты теории, которые – за исключением атеистов – могут принять все философы: натуралисты, детерминисты, пантеисты. Как может Бог, столь неизвестный и столь мало определенный, что Он подходит к учениям, которые я отвергаю, – как может Он подходить к моему учению?
Все эти столь тонкие и возвышенные аргументы, которые мы только что рассмотрели, имеют ту участь, что при переходе от их совокупности к изучению самого Бога с горечью замечаешь: хорошее доказательство существования Высшего Существа – не только весьма отвлеченная, но и весьма несовершенная, весьма темная работа, поскольку оно не дает того, что важно в отношении Бога. А важно – знать Его, понимать, что Он есть в Себе, что Он есть для творения и, главное, что Он есть для нас.