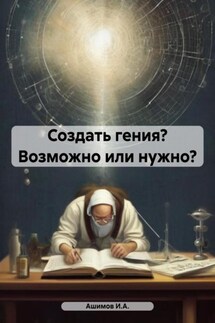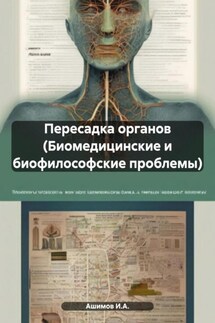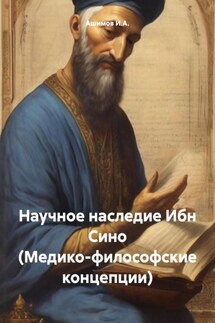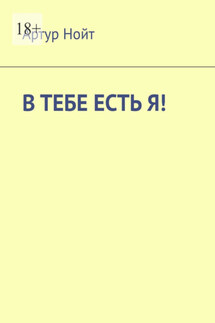Философская эссеистика - страница 26
Медицина – это индивидуализированное взаимодействие. В своем романе я привожу многочисленные диалоги и дискуссии, в которых четко выделены позиции сторонников и противников полной автономии. В частности, профессор Мэй – первопроходец автономной хирургии. Его история трагична и поучительна. Он создал универсальный хирургический модуль, успешно проведший сотни операций. Но однажды модуль дал сбой, и девять пациентов умерли. Суд обвинил Мэя, но он утверждал: это не его ошибка, это – предел техники. Его позиция: роботы будут совершенствоваться, и однажды заменят хирургов. Его уверенность основана на статистике и технооптимизме.
С другой стороны, философы, такие как Нарбеков и Сидоров, подчёркивают: хирургия – это не только техника, но и этика, совесть, моральная чувствительность. Нарбеков утверждает, что в XXI веке техника «видит» лучше врача, но не понимает. Сидоров говорит о феномене дезадаптации – не техника опасна, а утрата ответственности, её передача машине. Нужно полагать, что существует риски универсализации и утрата гибкости лишь при нынешней технологии роботохирургии. Что будет с ней завтра и послезавтра, трудно предположить. А пока хирург должен привыкать к новым идеям, контекстам, граням роботозированной хирургии.
Итак, ясно моя позиция: за гибридную модель. Пока я за то, чтобы робот помогала, но не вытесняла хирургов, за то, чтобы хирург остается капитаном операционной бригады, сохраняя право окончательного решения. Хирургия – это искусство решения, это внутренняя ось ответственности. Избежать дереализации у хирургов, особенно в условиях роботизированной и дистанционной хирургии, можно только при комплексном подходе, объединяющем технологии, психологию, философию и организацию труда.
Что такое дереализация у хирургов? Это чувство отчуждённости от реальности операции, возникающее при опосредованном взаимодействии с пациентом (через экран, интерфейс, ИИ). Возникает ощущение, что операция «игровая» или «виртуальная», утрачивается эмоциональная вовлечённость и ощущение ответственности. Хотелось бы высказаться по поводу философско-психологической интервенции в проблему роботохирургии будущего. В ответ на потерю хирургами телесного контакта с пациентом, на переход от «живого дела» к «техно-процедуре», на возникший дефицит смысла и сопричастности, философия предлагает рефлексировать: во-первых, на ценности человеческого тела, жизни, смысле врачебного долга; во-вторых, на развитие внутренней установки на сопричастность даже в опосредованной форме; в-третьих, на обсуждение технологического сглаживания интерфейса, главным образом, совершенствование сенсорики тканей с обратной связью (Хептик-технологии, симуляция текстур тканей, добавление тактильных, звуковых и температурных откликов).
Итак, избежать дереализации возможно, если хирургия будущего сохранит человеческий стержень в технологически опосредованной практике. Это требует: осмысленных интерфейсов; этической и эмоциональной подготовки; организации труда, не обесчеловечивающей врача. Как говорил Каракулов: «Хирург не должен становиться придатком интерфейса. Даже если его руки больше не касаются пациента напрямую – его ответственность и чувство сопричастности должны касаться его сердца». Как профессор кафедры хирургии для усовершенствования врачей считаю целесообразным интеграцию философии в обучение хирургов – это не абстрактная гуманитарная надстройка, а жизненно необходимый элемент подготовки мыслящего, ответственного и этически ориентированного профессионала, особенно в эпоху роботизации, технократизации и роста рисков моральной деградации профессии.