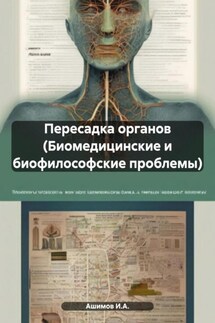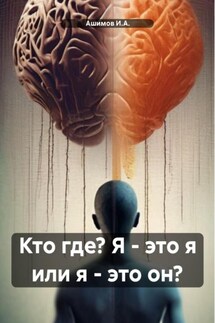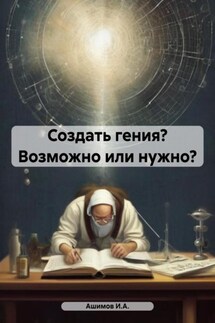Философская эссеистика - страница 8
В целом, Каракулов в романе – это фигура философа-гуманиста в белом халате, который осознаёт глубину технологических вызовов и этическую сложность вмешательства в человеческую природу. Он – совесть научного прогресса, голос разумной осторожности в мире, где границы между «Я» и «он» всё труднее установить. Его размышления превращают роман в лабораторию философии личности, а саму дилемму «Кто где?» – в задачу, выходящую за пределы медицины. В персонаже Каракулова, который в книге освещен как носитель философского и этико-научного осмысления проблемы личностной идентичности в контексте трансплантации мозга скрыта позиция автора книги. Сам автор репрезентирует позицию умеренного антропо-гуманизма, сочетающего научную рациональность с этическим самоконтролем.
В философском аспекте – личность как связность сознания нужно отметить, что дилемма, поставленная в романе – кто где? – восходит к проблеме личностной идентичности, центральной в философии сознания от Джона Локка до Дерека Парфита. Каракулов не даёт прямого ответа, но последовательно развивает позицию, согласно которой идентичность не сводится ни к телу, ни даже к мозгу, а требует учета психологической целостности, памяти, этического самовосприятия: «Мозг – это больше, чем орган. Он – носитель «Я». Но где «Я», когда мозг жив, а тело – иное?», – утверждает автор голосом и позицией Каракулова. Подобная позиция близка к теории психологической континуальности Д.Парфита, утверждавшего, что личность – это поток ментальных состояний, а не неделимая сущность.
В социально-философском ракурсе – идентичность как интерсубъективный конструкт, Каракулов показывает, что «новый человек», в котором тело и мозг принадлежат разным лицам, оказывается вне признанных социальных идентификаций. Ни медицинская, ни юридическая, ни культурная системы не готовы ответить на вопрос: кто перед нами – воскресший святой или «реанимированный демон»? «Общество будет видеть в нём святого или преступника? Кто примет нового человека, если он – оба?», – размышляет он. Здесь вступает в силу социальная теория идентичности, в духе Э. Гоффмана и М. Фуко: личность не только конституируется изнутри, но и формируется извне – через восприятие, контроль, власть, стигму.
В медико-биологической перспективе «Пересечение тела, техники и морали». С медицинской точки зрения профессор Каракулов признаёт эксперимент успешным – мозг функционирует, тело реагирует. Однако он настойчиво отказывается принимать этот успех как основание для морального самоуспокоения: «Врачи могут пересадить мозг, но не могут пересадить совесть. Не всё, что возможно – допустимо», – высказывается он. Так Каракулов становится выразителем идеи принципа ответственности Ханса Йонаса, согласно которому техническая мощь человека должна быть ограничена моральным самоконтролем и философской рефлексией.
И главное Каракулов как образ философа-гуманиста в науке. Фигура профессора в романе не случайно приближается к типу «последнего гуманиста». Он воплощает не только знание, но и мудрость, способную поставить предел прогрессу, если он противоречит человеку: во-первых, он мыслит в категориях экзистенции, а не только нейрофизиологии; во-вторых, он опасается неудачи не технической, а онтологической; в-третьих, он утверждает: спасён не тот, кто оживлён, а тот, кто заново осознан. Такой подход укоренён в философии Ж.-П. Сартра, для которого «человек – это проект самого себя», и в философии М. Мерло-Понти, где «тело не оболочка, а форма существования».