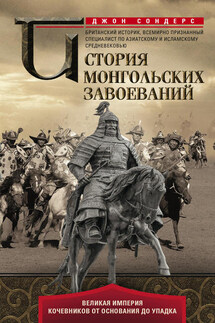Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 3. Идентичность - страница 15
III. Субъект, направление и причина движения мысли
Если, как это всегда будет иметь место в дальнейшем, мы не принимаем во внимание то, что якобы стоит за возникновением и является его причиной, то есть мыслящего субъекта, чьи мысли должны быть описаны как объект его деятельности, то движущееся следует понимать как субъект. Для нас нет разницы, движутся ли они или какая-то другая сила связывает их определенными законами; мы игнорируем их и рассматриваем движущееся как субъект. Этот субъект движения должен быть сначала определен. Пока что мы обозначаем то, что движется в мысли, как элемент мысли. Если мы будем далее выяснять направление этого движения, то прежде всего должны признаться, что мы не в состоянии указать место, откуда и куда движется элемент мысли. Мышление – это умственная деятельность, и представление о нем как о движении содержит перенос. Мы должны утешать себя тем, что нет абсолютно ничего духовного, что язык не обозначил бы образом, заимствованным из сферы чувственного. Поскольку в нашем мышлении нет ни пространства, ни отдельных мест, поскольку в нем нет ничего, кроме мыслей или их элементов, то пространственному определению места не может соответствовать ничто иное, как определение элементами мысли. Поэтому направление движения – это движение одного элемента мысли к другому, объединение или разделение.
Наконец, мы должны спросить о причине каждого такого движения одного элемента мысли к другому. Но если мышление на самом деле есть не что иное, как это движение, то где же упомянутые, часто изучаемые и преподаваемые законы мышления?
Что означает закон? Мы видим, что некоторые действия совершаются или не совершаются ради закона. Во всех этих случаях закон – это чужая воля, которая становится причиной моего поведения, хотя и не без участия условия, то есть представления о моем долге повиноваться и праве другого повелевать, или же о неблагоприятных последствиях нарушения закона. Если причиной моего поведения является прежде всего мое собственное понимание его целесообразности, то я не повиновался закону. Если кто-то говорит, что он сделал что-то законом для себя, то это уже перенос. Намерение, о котором идет речь, получает название закона только потому, что перед лицом противоположных склонностей оно получает статус закона, который соблюдается при любых обстоятельствах, несмотря на них.
Но говорят и о законах природы.
«Под словом „законы природы“, – говорит Карл Себастьян Корнелиус (Über die Bedeutung des Kausalprinzips in der Naturwissenschaft, стр. 1), – обычно понимают постоянный порядок, в котором происходит или совершается какое-либо природное явление. В скрытом виде закономерность природного явления выражается в постоянном отношении между различными членами, которые можно отличить друг от друга по отношению к явлениям. Так, например, существует постоянное отношение между стремлением атмосферного воздуха расширяться в пространстве и его плотностью, так что величина этого стремления, то есть расширяющая или растягивающая сила воздуха при одинаковых обстоятельствах, а именно при одинаковой температуре, находится почти в прямой зависимости от плотности или в обратной – от объема данного количества воздуха».
Но что означает «способ»? Поскольку движение само по себе неизбирательно, оно зависит только от того, что движется, от направления, обстоятельств места и времени и тому подобного. Эти пути и средства, установленные наблюдением, мы называем, выражаясь яснее, условиями, а все это вместе – причиной события. Так, закон Мариотта, процитированный Корнелиусом, дает нам условия величины экспансивной силы воздуха.