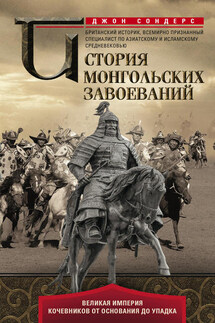Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 3. Идентичность - страница 13
Таким образом, первая, или причина бытия, или метафизическая причина не может быть видимостью, поскольку это противоречит ее понятию. В мире видимостей мы, конечно, часто находим связь состояний и, таким образом, рассматриваем предыдущее как причину того же последующего состояния. Но если мы резко вникнем в понятие следствия и не позволим обмануть себя языковыми средствами, то и здесь контраст между причиной и следствием станет очевидным. Причина рождения ребенка – это, конечно, человек, который когда-то был ребенком; причиной смерти может быть, конечно, человек, который тоже умер, но следующей фактической причиной этого эффекта всегда является нечто, чем он сам не является; причина смерти человека – это тоже не смерть, а деятельность; причина рождения – это тоже не рождение, а деятельность другого. Таким образом, если я предполагаю причину появления только потому, что нечто появляется, совершенно независимо от того, является ли оно тем или иным образом, то это, причина появления вообще, не может снова быть появлением. Если я спрашиваю о причине конкретной определенности появления, то, конечно, я найду ее в других появлениях. Но я никогда не буду искать ее в том же самом, то есть индивидуально том же самом явлении, а в другом. Теперь, если явление как таковое требует причины именно в силу своей природы, что оно есть явление, то это не может быть тем же самым, а не снова явлением. Я не принимаю во внимание цвета и звуковые ощущения, которые никто, вероятно, не сочтет за правильное познание, за сознательное воспроизведение этой реальности; но разве эта конечная причина, которая как таковая противостоит видимости вообще, тоже и здесь, и там, и круглая, и квадратная, и большая, и длинная, и подпрыгивает, и толкает, и ударяет, и позволяет себя ударить? А если нет, то что мы узнаем о нем? Может быть, то, что оно есть, и то, что оно – вечная причина, и что еще? Не знаю, говорил ли уже кто-нибудь об этом, и в логике Убервега я тоже ничего об этом не нашел. Может ли эта причина когда-нибудь научить нас явлениям, то есть этому миру, с которым мы должны смириться, который мы должны признать? Разве единственное, что мы можем понять о ней, не заключается в том, что она всегда порождает эти явления? Можем ли мы спросить, когда видим старое дерево перед нашим домом, или нашего друга, или прибор в нашей комнате, стоит ли за этими явлениями одна и та же причина бытия? Или – если бы кто-то захотел предположить такое для видов и родов – стоит ли одна и та же причина за двумя собаками, которых мы видим, или произошло чудо, и причина бытия, которая в других случаях склонна производить другие эффекты, например, появляться в виде козы, на этот раз появилась в виде собаки? Да, но «ответ кажется насмешкой над вопрошающим». Я не вижу, каким образом выдвинутая точка зрения (как утверждает против меня Убервег в третьем издании своей «Системы логики», примечание к §37) отменяет возможность причинной связи одного индивидуального сознания с другим. В самом деле, так же мало, как и причинное отношение одного тела к другому.
И для меня столь же непонятно, как противоречие, которое я нахожу в приписывании нуменону того, что относится к области феноменов – а что еще можно сказать? – должно быть уже дано с одной лишь мыслью о причине феноменального мира, с одной лишь мыслью о вещи-в-себе. Я далек от мысли, что никто другой не смог бы более плодотворно, чем я, продолжить мысль об этой реальности. Но никто не станет отрицать, что наше знание о мире, а также то знание, которому Убервег дает прекрасные указания в своей системе логики, не имеет ничего общего с этой реальностью. Неужели кто-то думал, что сможет сказать, что является причиной феноменов орла, муравья, углерода, азота, а если их несколько, то чем они отличаются? И если бы было полной глупостью приписывать этой причине изогнутый клюв и зоркий глаз первого и т. д., то не осталось бы ничего, кроме жалкого уклонения от того, что они различаются тем, что первый производит или способен производить те явления, а второй – эти. Поэтому несомненно, что человеческое познание, нормативные законы которого устанавливает Ибервег или которое я хочу описать, не соответствует реальности в той мере, в какой под ней понимается эта причина, но что в другом случае оно еще менее может быть названо воспроизведением реальности, а скорее должно быть названо производством. Только абстракция способна провести различие между двумя факторами – сенсорными впечатлениями и обрабатывающей деятельностью разума. На самом деле они всегда объединены; мы не знаем одного без другого. Наука должна рассматривать это производство. Каждый последующий шаг ведет непосредственно к причине. Объективное реальное явление, не зависящее от человеческого чувства и интеллекта, помещенное в середину между этим и тем, является исключением, которое столь же произвольно, сколь и бесплодно. Меня не удивляет, что Ибервег не может дать определение деятельности мышления или познания. Никто не может. Оно столь же первично, столь же первобытный опыт, как и все простейшие непосредственные ощущения или как само понятие бытия. Мы можем лишь утверждать, что мышление – это деятельность человека, деятельность, которая предпочтительно связана с мозгом как conditio sine qua non, и что это деятельность, которую каждый человек совершает неисчислимо часто каждый день (частично бессознательно), и что эти акты могут различаться не только по времени и количеству, но и в других отношениях, но, тем не менее, для очевидной одинаковости их обобщают под одним и тем же именем.