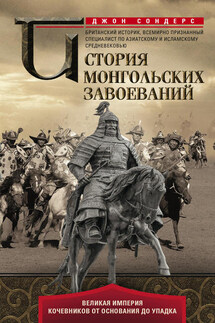Германия: философия XIX – начала XX вв. Сборник переводов. Том 3. Идентичность - страница 20
Точно так же обстоит дело с индуктивным рассуждением, где допускается гораздо больше и более вопиющих ошибок, чем в силлогизме. Вопрос «Что еще может быть?», который всегда ставится в качестве доказательства, ясно показывает, что человек, совершающий ошибку, всегда имел представление о том, что важно: из всех мыслимых причин та, которая не проявила себя как не-причина, действительно должна рассматриваться как причина. Ошибка в таком случае всегда заключается в том, что ошибающийся человек не имел представления о возможностях, которые еще существуют, помимо вычисленных. Это простой вывод, который может сделать самый необразованный и глупый человек, что найденный объект должен быть искомым, если он каким-то образом должен присутствовать в обозначенном пространстве и в нем не может быть идентичного или похожего объекта. Характеристика отрицательная, но вывод опять-таки не что иное, как реализация idem [того же – wp]. Кому мы можем доверить ошибку в применении этого закона? Это не мое утверждение, а общая тенденция интерпретировать путаные мысли даже в самых безумных фантазиях душевнобольных, пытаясь распознать, какие странные идеи были связаны со словами. Но как же велика тогда непоследовательность в ложных выводах психически здоровых людей, чтобы всегда и везде искать не фактическую ошибку в одной из примененных идей, а формальную ошибку в умозаключении! Откуда берется ложность концепции, можно понять, но откуда должна взяться формальная ошибка в рассуждениях – необъяснимо. Поскольку мы уже сотни и тысячи раз правильно приходили к выводу, который должен быть применен в данном случае, и поэтому, несомненно, знаем принцип, который должен быть применен сам по себе, причина ошибки может заключаться только в содержании наших представлений; этот вывод, как мне кажется, прост и ясен. То, что принцип, лежащий в основе всех наших умозаключений, даже в комбинациях, считающихся самыми трудными в учебниках логики, применяется с быстротой и уверенностью самими детьми и самыми неграмотными, как только дело, то есть идеи, с которыми нужно оперировать, становятся совершенно ясными, является достаточным доказательством. Нет более убедительного доказательства, чем то, что каждый человек, даже не имея никакого представления о теоретической формулировке вывода и не умея хорошо сформулировать нерв доказательства, тем не менее делает правильный вывод, как только его представления о предмете становятся ясными. Каждый школьник тысячу раз убеждался, что мальчик, только что высказавший самое глупое умозаключение, приходит к правильному выводу, если ему удается изложить то же самое умозаключение с помощью простых идей, с которыми мальчик хорошо знаком. Тогда он, несомненно, делает правильный вывод! Часто, однако, он снова терпит неудачу, когда нужно применить трудный материал, но это только потому, что он сам по себе еще не ясен ему, потому что при словах учителя, возможно, добросовестно заученных им, он либо вообще ничего не представляет, либо представляет себе что-то неправильно, не знает еще, как сделать необходимую абстракцию, или, особенно в связи с несколькими абстрактными идеями, не может удержать их, но всегда теряет одну, пытаясь додумать другую.
Именно то, что наиболее знакомо и очевидно, часто упускается из виду и не принимается близко к сердцу. То, что эти принципы, лежащие в основе всех рассуждений, являются единственными, которые не могут быть доведены до понимания мальчика или подрастающего юноши в общей формулировке правила, но сначала только путем обращения к сознанию, путем ссылки на то, что каждый естественно делает сам по себе в индивидуальном случае, неопровержимо доказывает, что они сами по себе, принадлежащие к природе души, не усваиваются, что против них не совершается никакой ошибки, но что неясность понятий всегда является источником ошибки.