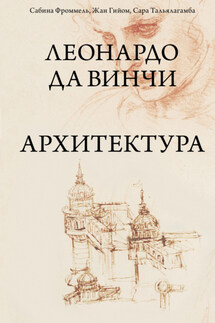Германская модель военных реформ - страница 12
Что подразумевается под широким консенсусом элиты? Речь конкретно идет о наличии чёткого представления о том, что такая реформа необходима для реализации эффективного внешнеполитического курса страны. Каковы побудительные мотивы, формирующие данный консенсус? С точки зрения автора монографии, их можно условно разделить на три основные группы. Первая – это настоящие (сегодняшние) потребности, вызванные усложнением ситуации в сфере безопасности и обороны для государства, неспособностью устаревшей военной организации справляться с вновь возникающим кругом проблем. Вторая группа – это способность военных технократов среднего и высшего уровня представить обоснованный оптимальный вариант преобразований ВС, его соответствие ресурсным возможностям страны. Так, в условиях отказа многих стран – участниц НАТО от смешанной (прежде всего, основанной на призыве)[48] системы комплектования вооружённых сил и их переводу исключительно на контрактную основу сверхострой стала проблема набора достаточных по численности контингентов и мотивация службы. Не менее сложный вопрос – выделение необходимых денежных ассигнований, притом, как минимум, на среднесрочную перспективу (для обеспечения стабильности финансирования). Наконец, третья группа мотивов – понимание объективной необходимости реформы ВС для обеспечения должного уровня военной мощи с учетом роли, которую страна пытается играть на мировой арене – в данном случае речь прежде всего идет о круге держав, в том числе «восходящих». Третья группа причин носит наиболее фундаментальный и долгосрочный характер, однако в имиджевом плане она обычно «затушевывается» из-за невыгодного имиджевого восприятия – прежде всего, как вне страны (обвинение в «бряцании оружием» и милитаризации внешней политики), так часто и внутри, что особенно актуально для Германии с учетом её исторического наследия. Поэтому часто данная группа факторов «маскируется» посредством педалирования первой их группы. В этой связи показателен пример новой «холодной войны», инициированной весной 2014 г. Евро-Атлантическим сообществом в отношениях с РФ и приобретшей среди прочих полноценное военно-политическое измерение. Интересно следующее совпадение: конфронтация, стимулируя рост военных потенциалов (под предлогом сдерживания якобы существующей «российской угрозы», а в последующем и вызовов со стороны КНР), наступила в период, когда «военные машины» многих стран Запада в своем развитии путем длительных редукций дошли до «дна» своих возможностей, «пробивание» которого оказалось чревато деградацией внешнеполитических позиций в целом. Уже отмечалось выше, что ФРГ в полной мере столкнулась с данной проблемой к середине 2010-х годов. Причём как минимум на кратко- и среднесрочную перспективу, с учетом сложности перестройки работы всей громоздкой «военной машины», участие в противостоянии становится также и сдерживающим, а не только благоприятствующим фактором для развития её потенциала. В долгосрочной открывается возможность для его наращивания (прежде всего, в смысле войск общего назначения), однако и ограничители продолжают оставаться существенными.
Геометрически военная реформа представляет собой не прямую, но изогнутую линию, включающую как минимум три этапа. В ходе первого чётко формулируются планы, осуществляется ломка (полная или частичная) старой военной системы. На втором, основном или кульминационном, этапе осуществляется уже демонтаж всех ненужных элементов и их массовая замена с последующей апробацией. Наконец, на третьем, завершающем, происходит упорядочение вновь сформированной системы с закладыванием возможности внесения в неё частных корректировок, представляющих собой результат эволюции в рамках процесса строительства вооружённых сил. Одновременно осуществляется рост их количественных параметров.