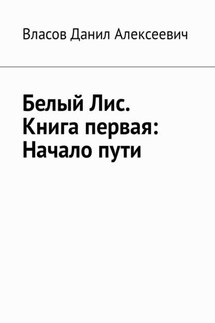Читать онлайн Alex Coder - Хмарь над Киевом
Глава 1: Гнилая Топь
Запах пришел первым.
Он не подкрался, а ударил разом, как брошенный в лицо мокрый ком тухлятины. Он был густым, тяжелым, липким – воздух, который можно было почти потрогать, но к которому не хотелось прикасаться. Ратибор, воевода князя Ярополка, чувствовал его за версту до околицы забытой богами деревеньки Гнилая Топь. Этот запах цеплялся за горло, оставляя на языке жирный, маслянистый привкус.
Это была сложная, многослойная симфония разложения. Основную ноту вела сладковатая, тошнотворная вонь гниющего мяса, оставленного на солнцепеке. Под ней звучал кислый, булькающий аккорд болотной тины, в которой умерло нечто огромное, что не смогла переварить даже ненасытная трясина. И все это пронизывала третья, самая тревожная нота – едкий, почти химический запах распада самой земли, словно кто-то вылил на почву неизвестный яд, заставив ее корчиться в агонии.
Его конь, серый в яблоках жеребец, прошедший с ним огнем и мечом по дунайским берегам, всхрапывал, мотал головой и бил копытом, отказываясь идти дальше. Под двумя молодыми отроками из княжеской дружины, которых приставили к воеводе, кони и вовсе обезумели – косили бельмами, храпели так, что из ноздрей летела пена, и норовили понести обратно, прочь из этого гниющего сердца леса. Один из юнцов, бледный, как полотно, с выступившей на лбу холодной испариной, согнулся в седле и сплюнул на землю густую, желчную слюну.
Но Ратибор был спокоен. Его лицо, будто вытесанное грубым топором из старого, просмоленного дуба и пересеченное несколькими бледными шрамами – памятью о греческих копьях и печенежских саблях, – оставалось непроницаемой маской. В его серых, как осеннее небо перед затяжным дождем, глазах не было страха. Лишь усталость. Бесконечная, глубинная, как сама топь, усталость человека, который видел слишком много смертей, чтобы удивляться еще одной.
Он помнил запах тысяч гниющих тел после великой сечи под Доростолом. Жара тогда стояла такая, что трупы раздувало за полдня, кожа на них лопалась с тихим, влажным треском, выпуская на волю рои жирных зеленых мух. Но та вонь была другой. Честной. Понятной. Это был запах мертвой плоти, логичный итог битвы.
Здесь, у Гнилой Топи, пахло иначе. Этот запах был злым. Он не просто сообщал о смерти – он упивался ею.
Деревенька из пяти кривых, вросших в землю изб встретила их мертвой, абсолютной тишиной. Ни лая собак, ни мычания скота, ни скрипа телеги. Жители, словно крысы, забились по норам, заперев двери на тяжелые засовы и занавесив окна тряпьем. Лишь один седой, иссохший староста, дрожащий так, что его челюсть отбивала частую дробь, вышел им навстречу. От него волной несло кислым запахом дешевой браги и острым, унизительным душком мочи. Животный страх лишил его человеческого облика.
– Туда, воевода… – пролепетал он, указывая скрюченным, похожим на сухую ветку пальцем на кромку топи. – Там оно… Сама земля сбрендила… Хмарь… хмарь забрала…
Ратибор спешился, бросив поводья мальчишке, и его тяжелые сапоги с чавканьем утонули в ржавой, пузырящейся жиже. Он прошел мимо старосты с брезгливым безразличием, его взгляд был прикован к поляне у края болота.
И он увидел вороньё.
Десятки, может быть, сотня птиц. Черные, лоснящиеся, как пролитая смола. Они сидели на низких, корявых ветках плакучей ольхи и на земле вокруг поляны. Но они не каркали. Не дрались за добычу, не клевали друг друга. Они сидели в абсолютной, противоестественной тишине, неподвижные, как изваяния из обсидиана, и просто смотрели. Эти птицы, вечные спутники смерти и падали, чего-то боялись.
И под ними, в центре идеально ровного круга из черной, выжженной до состояния пепла травы, лежал человек.
Издалека он был просто неподвижным, грязным силуэтом. Но когда Ратибор подошел ближе, он увидел, что над телом висит гудящее, живое облако. Тысячи, десятки тысяч огромных, иссиня-черных трупных мух. Они ползали по телу, взлетали и садились, покрывая его копошащимся, влажным ковром, живым и пульсирующим. Их мерное, низкое жужжание сливалось в один непрерывный, вибрирующий гул. Это был не просто звук. Это было ощущение – так гудит натянутая до предела басовая струна тетивы огромного лука. Звук, который, казалось, исходил не от насекомых, а из-под самой мертвой земли, из самого сердца гнили.
Глава 2: То, что осталось
Ратибор опустился на одно колено, и кожа сапога издала сухой, протестующий скрип, утопая в липкой грязи на границе мертвого круга. За его спиной раздался сдавленный, булькающий звук, а затем – резкий всплеск. Молодой дружинник, не выдержав вида и вони, согнулся пополам, и струя желчной рвоты ударила в болотную воду. Ратибор даже не повернул головы. Его взгляд, холодный и цепкий, как хватка утопленника, был прикован к тому, что когда-то было человеком по имени Охрим.
Картина перед ним была не просто раной – это была насмешка над самой сутью насильственной смерти. Грудь и живот Охрима не были пронзены или вспороты. Они были… взорваны изнутри. Разорваны с чудовищной, запредельной силой, будто в его тело засунули две невидимые гигантские руки и рванули их в стороны. Ребра, с хрустом выломанные из позвоночника, были отогнуты наружу, словно лепестки какого-то адского цветка, что расцвел на человеческом торсе.
Но истинный ужас скрывался в пустоте этой раны.
Внутри не было кровавого месива, блестящих петель кишок или дрожащей массы органов. Полость зияла почти сухой. То, что осталось от его нутра – печень, желудок, селезенка, – не вывалилось наружу, а сжалось, усохло, съежилось в маленькие, сморщенные, почерневшие комки, прилипшие к позвоночнику. Они походили на высохшие грибы или куски обугленной кожи, лишенные всякой влаги, всякой крови.
Кровь не пропитала землю, не окрасила воду. Ее просто не было. Лишь бурые, засохшие до состояния ржавчины пятна на лохмотьях рубахи. Кожа самого Охрима была не бледной, а серой, как старый, залежавшийся пергамент. Она туго обтягивала кости черепа, обнажая вечный, беззвучный крик на высохших, потрескавшихся, как пустынная земля, губах.
Глаза были вырваны. Но не вырезаны ножом, а именно вырваны, с клочьями мышц и нервов. И в пустых, черных глазницах копошились белые, жирные, слепые личинки опарышей. Они не просто ели – они жадно пожирали последние остатки влаги, последние соки из глазных яблок.
«Как вяленое мясо, что мы готовили для похода в степь», – отстраненно, почти механически подумал Ратибор. Только вялят его неделями под солнцем и ветром, посыпая солью. Охрима же, по словам старосты, видели живым вчера вечером. Это превращение из человека в высушенную мумию заняло одну ночь.
Затем его взгляд сместился, зацепившись за нечто иное, что лежало в паре шагов от Охрима, наполовину погруженное в переливчатую, как нефтяное пятно, воду.
Это существо было ростом с трехлетнего ребенка, но никогда не являлось человеком. Ратибор сразу понял, что видит мертвый остов болотника – тихого, скрытного духа, хранителя этой топи. Его тело, при жизни сотканное из живого мха, гибких корней, болотных цветов и самой души этого места, теперь представляло собой хрупкую, окаменевшую пародию. Оно походило на обломок древнего, выброшенного на берег дерева, что пролежало под палящим солнцем сотню лет. Его кожа-кора растрескалась, как пересохшая глина, обнажая под собой не живую плоть, а сухую, волокнистую труху, похожую на пыль.
Длинные, тонкие руки-веточки были скрючены в последней, безмолвной агонии. А в его груди, там, где у живого существа билось бы сердце, где концентрировалась его жизненная сила, зияла обугленная, оплавленная дыра. И от этого маленького, иссохшего тельца исходила та же аура абсолютной сухости, что и от трупа человека.
Ратибор медленно поднялся. Он шагнул внутрь круга мертвой земли. Под его сапогом не хлюпнуло. Почва была твердой, как камень, и под его весом послышался тихий сухой треск, словно он наступил на корку льда. Он провел носком сапога по поверхности – взметнулось облачко серой пыли. Мертвая земля.
Он сделал один шаг в сторону, за пределы круга. И сапог тут же на полфута ушел в упругую, живую, чавкающую болотную грязь.
Ратибор замер, переводя взгляд с высушенного человека на окаменевшего духа, а затем на мертвый круг под ногами. Двойное убийство, совершенное на двух уровнях бытия. Жизнь была не просто отнята. Ее выпили. Высосали. Собрали, как собирают березовый сок весной, до последней капли, оставив лишь пустую, безжизненную оболочку человека, духа и самой земли.
Это было не убийство.
Это был урожай.
Глава 3: Печать Чернобога
Ратибор медленно, шаг за шагом, начал обходить мертвый круг. Он не искал следы в грязи. Он знал – их не будет. Зверь бы оставил отпечатки когтистых лап. Человек – вмятины от сапог. То, что приходило сюда ночью, не касалось земли. Оно скользило между каплями дождя и тенями от деревьев. Оно пришло из того места, где у следов нет ни веса, ни формы.
Он читал знаки иного порядка. Абсолютную, мертвую тишину, в которой застыли даже молчаливые вороны. Колеблющийся воздух над эпицентром поляны, который, казалось, вибрировал от невидимого жара. Гудение мух, которое было не звуком, а давлением на барабанные перепонки.
Разбой? Он презрительно хмыкнул, увидев на земле рядом с трупом маленький, разбухший от влаги кожаный кошель. Он пнул его носком сапога. Из кошеля выкатилось несколько зеленых от окиси медных монет. Добыча, за которую не убьют даже самого нищего пьяницу.
Месть? За что мстить Охриму? За то, что он дышал? Это была жестокость не личная, не человеческая. В ней не было страсти, ярости или ненависти. Лишь холодная, методичная целесообразность, как у мясника, что потрошит тушу.
Значит, это был обряд. Жертвоприношение. А у всякого обряда, как и у клейма на скотине, должен быть знак. Печать владельца.
И тогда его взгляд упал на ствол старой, плакучей ольхи, под сенью которой лежало то, что осталось от Охрима. Что-то чужеродное нарушало естественный, морщинистый рисунок коры. Темное пятно, которого не должно было быть.
Ратибор подошел. Воздух здесь стал еще гуще, еще тяжелее. Он протянул руку и содрал ногтями толстый, склизкий, холодный слой зеленого мха. Под ним открылась древесина. И он замер, ощутив, как по спине пробегает волна ледяного пота.
На дереве была вырезана руна. Свежая, края реза были еще светлыми. Но ощущалась она так, будто ей сотни, тысячи лет. Ратибор, хоть и не был волхвом, провел достаточно времени в походах по чужим землям и видел десятки разных знаков и символов. Но эту он скорее почувствовал, чем узнал. Это было уродливое кощунство, насмешка над священным.
Он узнал основу – это была руна Мира, символ Мирового Древа, что связывает миры, знак порядка, общины и защиты. Священная, чистая руна.
Но ее изнасиловали.
Ее изувечили.
Руну перевернули вверх тормашками, и теперь она символизировала не жизнь, растущую к небу, а смерть, уходящую корнями во тьму. Ее рассекли грубой, глубокой вертикальной чертой, расколов суть, превратив гармонию в раскол. Но самое страшное было в центре. В сердце этого оскверненного знака был выжжен крохотный, но идеально ровный, идеально черный круг.
Точка.
Прокол в ткани мироздания.
Зрачок слепого бога.
Маленькая, но бездонная щель в Навь, заглянув в которую, можно было увидеть лишь холод, пустоту и бесконечный, безмолвный голод.