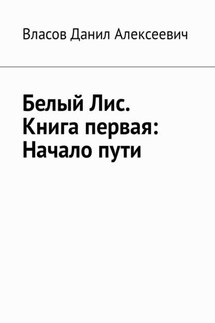Хмарь над Киевом - страница 4
Ратибор посмотрел на идущих по двору дружинников – здоровенных, горластых рубак с бычьими шеями, гордых своей силой и блеском оружия. Они были лучшими воинами князя. Верные псы, обученные рвать глотки врагам Ярополка. И сейчас Ратибор с холодной, кристальной ясностью понял: они были абсолютно бесполезны.
Их секиры были созданы, чтобы крушить щиты и черепа. Их мечи – чтобы вспарывать кольчуги и животы. Они были инструментами для войны с плотью и кровью. Но как рубить тень? Как пронзить мечом то, что не имеет тела, а лишь выпивает саму жизнь из земли? Послать эту ораву на бой с тем, что оставило от Охрима и болотника лишь сухую шелуху, было все равно, что пытаться вычерпать Днепр решетом. Бессмысленно и глупо.
Ему нужны были другие инструменты. Не меч, а хирургический скальпель, чтобы вскрыть гнойник. Не щит, а костяной оберег, что отводит взгляд нечисти. Ему нужны были те, кто сам ходил по краю, заглядывал во тьму и не моргал.
И он знал, где их искать.
В его голове, выжженные памятью, всплыли два образа.
Первый был широким, как заслонка от печи, и заросшим спутанной рыжей бородой, в которой вечно застревали крошки и капли меда. Лицо, которое могло ухмыляться с беззаботностью ребенка или реветь с яростью берсерка. Всеслав. Прозвище «Медведь» было не прозвищем, а точным описанием его сути. Его побратим. Человек, который был не столько воином, сколько стихийным бедствием на ногах. Память услужливо подбросила Ратибору картину: стены болгарской крепости Доростол, дождь из стрел. Одна из них, с черным оперением, глубоко вошла в плечо Всеслава. Тот не охнул. Он взревел, как раненый зверь, обломил древко о камень стены, и с этим обрубком, торчащим из мяса, схватил две свои секиры. А потом он просто пошел вперед, в самую гущу вражеского строя. Это была не битва. Это была бойня. Живой таран, вихрь из стали, кожи и рыжей бороды, оставляющий за собой просеку из разорванных тел, расколотых щитов и влажного хруста ломаемых костей.
Ратибору была нужна эта слепая, несокрушимая, очищающая ярость. Ему нужен был тот, кто, увидев порождение кошмара, не станет думать или бояться. Он просто уничтожит его. И Ратибор знал, где найти своего Медведя: в самой грязной, дешевой и кровавой корчме на Подоле под названием «Кривой Клык». Там, в смраде пролитого эля, пота и отчаяния, Всеслав будет либо вливать в себя брагу до беспамятства, либо калечить кого-нибудь в кулачном бою на потеху портовым грузчикам.
Второй образ был тоньше, эфемернее, как дым от костра. Женское лицо, обрамленное темными волосами с ранней, серебряной проседью. И глаза. Главное – глаза. Пронзительные, пугающе умные, цвета грозового неба, которые, казалось, видели не тебя, а пыльных призраков, что цепляются за твои плечи, и старые раны, что гниют у тебя в душе.
Зоряна.
Женщина, которую в Киеве звали по-разному, всегда шепотом: ведунья, знахарка, ворожея, ведьма. Она жила на отшибе, у старого, полуразрушенного Ярилова капища, где деревья росли странно, изгибаясь в неестественных позах. Люди обходили ее дом десятой дорогой, крестились или сплевывали через плечо, завидев ее издали. От нее пахло не духами или потом, а сухими травами, старым дымом и озоном – запахом воздуха после того, как гроза расколола небо надвое.
Ратибор знал: если кто и мог прочитать невидимые, выжженные на душе мира следы, что остались на Гнилой Топи, то это она. Если кто и мог понять истинную суть исковерканной руны, то только та, что сама говорила на языке теней и корней. Ему был нужен ее взгляд, ее знания, ее связь с тем миром, который только что оскалил свои клыки. Всеслав был его кувалдой. Зоряна должна была стать его скальпелем.