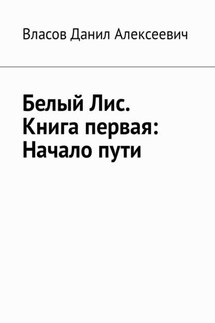Хмарь над Киевом - страница 5
Ратибор поправил тяжелый меч на поясе – привычный жест, возвращающий в реальность. Он резко развернулся и решительно зашагал прочь от княжьего детинца, вниз по склону, в лабиринт грязных, кривых, вонючих улочек Подола. Вниз, на самое дно города.
Первым делом – Медведь. Разговор с Зоряной требует тишины, темноты и правильных слов. Но для начала ему нужна была грубая, надежная, предсказуемая в своей свирепости сила.
Расследование началось. И его первым шагом будет погружение в киевский ад, чтобы вытащить оттуда своего верного, ручного зверя.
Глава 6: Кривой Клык
Подол встретил Ратибора не как район города, а как отдельный, больной, бурлящий жизнью организм. Спуск с высокого княжеского холма, с Горы, был погружением в иное измерение. Воздух, до этого пахнущий древесным дымом и прохладой, сгущался с каждым шагом вниз, становясь тяжелым и влажным. Он пропитывался миазмами низменной жизни: пронзительной вонью гниющей рыбы с пристани, кисло-сладким запахом разлитой браги, грубым духом невыделанных кож и едким, щекочущим ноздри смрадом нечистот, что текли мутными ручьями по немощеным улочкам.
Скрип несмазанных тележных колес въедался в слух, смешиваясь с гортанной руганью грузчиков, визгливыми криками торговок и пьяным смехом. Здесь, внизу, жизнь была гуще, яростнее и дешевле. И корчма «Кривой Клык» была самым гнойным, самым воспаленным нарывом на этом запущенном теле.
Низкое, приземистое, вросшее в грязную землю строение, с просевшей крышей, покрытой мхом и птичьим пометом. Из единственного мутного окна, затянутого бычьим пузырем, сочился больной, желтый свет. От самой постройки исходил концентрированный дух ее содержимого: застарелого пота сотен немытых тел, пролитого за годы пива, впитавшегося в дерево, и беспросветного, липкого отчаяния.
Ратибор толкнул тяжелую, вечно мокрую дверь, и она отворилась с протестующим скрипом. В него ударила волна шума и жара. Воздух внутри был плотным, как войлок, и таким густым, что казалось, его можно резать ножом. Внутри стоял рев, как в растревоженном улье диких пчел. У дальней стены, в импровизированном кругу, очерченном не мелом, а рядом грязных, скалящихся морд, происходило действо.
Два полуголых по пояс мужика, лоснящихся от пота, мутузили друг друга под ободряющие крики толпы. Один, жилистый и верткий речник с вытатуированным на плече змеем, уже истекал кровью из глубокой сечки над бровью. Кровь заливала ему глаз, но он яростно пер вперед, отчаянно выбрасывая кулаки.
Второй… вторым был Всеслав.
Он был огромен. Не просто высок и широк – он был сбит как-то иначе, по-медвежьи. Гора бугристых мускулов, покрытых старыми белесыми шрамами, венчалась копной спутанных рыжих волос и такой же дикой, густой бородой. И он не дрался. Он играл. Медведь, лениво забавляющийся с назойливой, тявкающей собачонкой. Он не уклонялся от неуклюжих ударов, а принимал их на свои могучие плечи и грудь с глухим, не причиняющим ему вреда шлепком. На его лице, под слоем грязи и пота, сияла пьяная, полная превосходства ухмылка. Он легко отталкивал речника, позволял ему снова подойти, парировал удары предплечьями, и в его голубых глазах плескалось откровенное, жестокое веселье.
«Вот он, мой таран, – отстраненно подумал Ратибор. – Простой и честный двигатель разрушения. И я пришел, чтобы окунуть его в грязь, от которой не отмоешься».
Наконец, Всеславу это надоело. Когда жилистый, собрав последние силы, снова ринулся на него, отчаянно целясь в подбородок, Всеслав не стал бить в ответ. Он сделал простое, ленивое движение – выставил вперед свою огромную, как свиной окорок, ладонь. Жесткая мозолистая плоть встретила летящее на нее лицо.