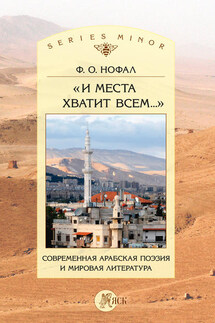«И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература - страница 10
Вот, акации и кактусы слушают историю […] Так брось то, что в сердце, даже камню – разве резьба не обладает памятью, лучшей, нежели человеческая?
Дон Кихот Сурура – метафизик, познавший «вещи в себе»; именно это ставит он себе в заслугу, именно в этом упрекает он своего «собеседника» Шопенгауэра.
Однако вскоре Дон Кихот начинает отходить от философичности автора и приобретать пророческие – а то и божественные – черты. Всякая «земная» попытка прорваться к личности «рыцаря» предсказуемо заканчивается неудачей:
Одновременно с этим Дон Кихот сознательно присваивает себе богочеловечество Христа и Прометея – он тяготитс я «слепотой сердец» и готов «отдать псам свою печень», сетует на то, что он, «подобный пророкам», не был встречен при рождении «пением ангелов» и «ходом звезды». В родной деревне герой был единственным «воскресшим» из числа ее жителей – «еле живых мертвецов», а в городе его возмущала «скверная торговля».
Дон Кихоту принадлежит и «ворон Каина и Авеля», и приказ «читать», данный Мухаммаду, и кит Ионы. «Присваивается» им и коранический образ служения пророка Салиха, чье знамение – красная верблюдица, явившаяся из горы, – было уничтожено вероломными самудянами – «страуса» Рыцаря убили погромщики Ахтаб. Но Дон Кихот через метафору «борьбы змеи и лягушки» приходит к оправданию «природного» зла:
Тем не менее автор движется от божественности к свержению самой идеи божественности, от покаяния Дон Кихота в «соблазне книгами» – к презрению ко всякому revelatiо:
Проповеданное соотечественником Сурура 'А. Бадави «напряженное единство» противоположностей нашло отклик и в философии Ламанчца:
Эту интенцию потом подхватывает и Данте, призывающий собеседника «попрать головы» грешников девятого круга:
Упомянутое единство греха и благодетели освящает мироздание вокруг героя – но лишь на время: экзистенциальный выбор между борьбой, размеренной жизнью и самоубийством, вкупе с «предвечным» лицемерием воров, вновь отравляет покой Рыцаря (как некогда оно тревожило и ал-Ма'арри). В конце концов выбор так и остается несделанным – Дон Кихот-Христос повелевает:
Самому библейскому Христу Дон Кихот по-ницшеански отказывает и в божественности, и в историческом успехе его миссии, которая, наряду с бессмысленной крестной смертью, принесла лишнее основание противостоянию «по сию сторону добра и зла»: