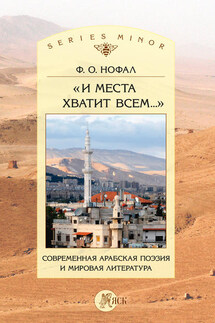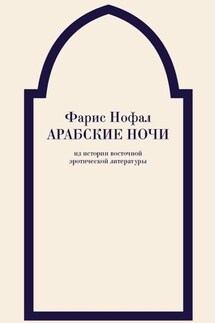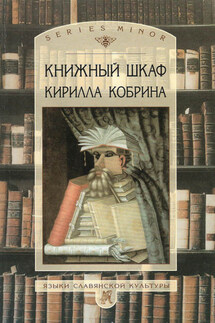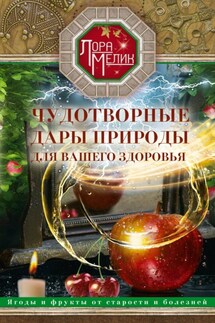«И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература - страница 11
Вероятно, подобная метафизика веры и этики напомнила читателю знаменитый «Разговор с небожителем» (1970) И. Бродского. Действительно, в «Разговоре…» мы встречаем похожие строки:
Как монологичность первой части стихотворения Бродского, так и трепет второй перед тишиной, молчанием, покоем связывает лирического героя «Разговора…» с Дон Кихотом «Необходимости…»:
Но особым ключом к поэме Сурура, обучавшегося театральной режиссуре в Москве с 1958 по 1973 г., становится другой ее отрывок, посвященный восхвалению внутренней, априорной святости, не связанной со Всевышним и Его дарами:
Несомненное сходство смыслов отсылает нас к эпохальным «Пилигримам» (1958) Бродского:
«Святые» Сурура «подобны голубям», полет которых будет продолжаться до бесконечности, невзирая на смерть, – так же как и «пилигримы» Бродского, которым «остались только иллюзия и дорога». Таким образом, Дон Кихот «Необходимости необходимого» через свои монологи и диалоги проповедует метафизические построения Бродского, чье творчество было хорошо известно автору по его «европейской» биографиче ской вехе. Лик Дон Кихота Сервантеса, поражавший арабских литераторов, прежде всего прочего, своим «милитаристским оптимизмом», заслоняется у Сурура бледным, усталым ликом поэта-философа.
Хочется завершить этот очерк кратким итогом, который в то же время будет введением в тему: следует сказать несколько слов об общих особенностях всех упомянутых нами попыток «дон-кихотической» экзегезы. Центром арабской герменевтики Дон Кихота становится его принципиальная инаковость миру; при этом если европейская мысль в категориях феноменологической социологии А. Щюца пришла к выводу об инаковости персонажа романа «субуниверсумам реальности», то все поэты Ближнего Востока, так или иначе соприкасавшиеся с сервантесовской интуицией, свидетельствовали об