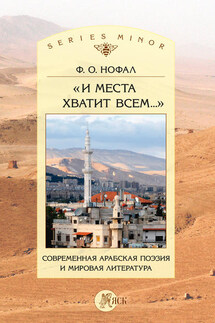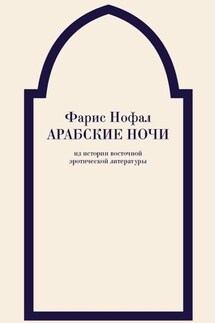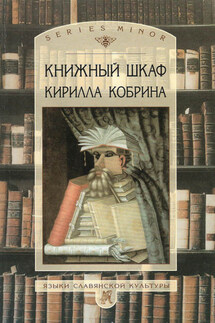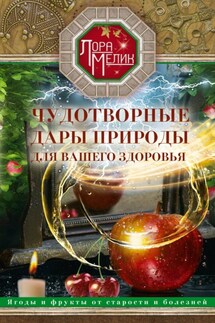«И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература - страница 2
Как считают суфии, ограниченного количества образов, подобранных с осторожностью теолога и апологета (ведь метафоры Абсолюта должны быть Его достойны!), вполне достаточно для выражения глубочайших прозрений человеческого духа. Примерно в том же уверены и их преемники: для того, чтобы протянуть мост между «известным» и положительно «бесконечным», достаточно нескольких ключевых фигур. В этом смысле в арабской поэзии сегодняшнего дня нет места эклектическому хаосу и беспорядку имен – ведь все ее действующие лица продолжают свой танец, крайне тяжело впуская в меджлис чужестранцев, в появлении которых нет ни эстетической, ни бытийной необходимости.
Вместе с тем несколько десятков «туристов» все-таки пробрались в самую гущу мистического действа арабской литературы. О них-то и пойдет речь на страницах этой книги.
Суфийский танец – как оказалось, действо поэтическое в современно-арабском своем изводе – в чем-то оказывается похожим на восточнохристианские мистические практики, которые постепенно оформлялись в ходе ожесточенной полемики с Западом. Судьба литературного танца арабов – в сущности, та же судьба русского литературного карнавала, вовремя устро енного на восточных «площадях» поэтической империи.
То, что современные критики называют «ориентальным дискурсом» классической русской литературы, вполне сравнимо с «вестерновым дискурсом» современной литературы арабской[5]. Оба проблемных поля формировались под прямым влиянием иностранных переводов первоисточников и, поначалу, излишне романтизировались; обе концептуальные сферы, набрав достаточный удельный вес в национальном литературном пространстве, долго шли от поверхностных описаний к глубинному знакомству с новыми героями и персонажами. Последнее конечно же было бы невозможно без развития академической литературоведческой и культурологической компаративистики – как отечественной, так и ближневосточной, – сыгравшей особую роль в «углублении» очерченной выше «философичности». Как и А. Фет, «приспособивший» образ суфия Хафиза (ум. 1390) к нуждам т. н. чистого искусства, Сайф ар-Рахби смело «присваивает» образ ницшеанского Заратустры для собственной «критики арабского разума». При этом и «ориенталисты», и «западники» бережно травестируют целые мотивные комплексы образного мира своих оппонентов и соавторов. Такова необходимость «гамбургского счета» современных литературных плясок – дионисийских ли, суфийских ли, – пытающихся прорваться к чужой мысли через собственные догадки и чуть ли не религиозные усилия («Иджтихад», – поправят нас исламские законоведы).
Другими словами, условность всех наскучивших читателю «дискурсов» устраняется через следующий старинный персидско-суфийский принцип: «Невозможно поклоняться чему-либо иному, нежели Бог». Конечно же, Господь вездесущ – но и «проявления» Его во вселенной представляют собою нечто иное, нежели их Создатель. Следовательно, мистик обязан исказить очевидность, чтобы «адаптировать» для себя ее и стинную реальность, не утерявшую связи с Божеством-Первоистоком. Похожее происходит и с современной арабской поэзией: «искажая» заимствованные образы первоисточников, поэт видит их «настоящую», понятную в итоге долгой «духовной» работы арабскому читателю, оность. Это – не противостояние субъекта и объекта литературы, с одной стороны, и цивилизационных клише – с другой; это – всего-навсего диалектика явного и скрытого, столь привычная для арабского подвижника пера.