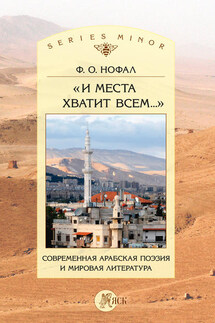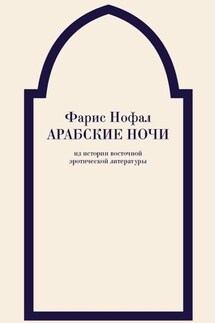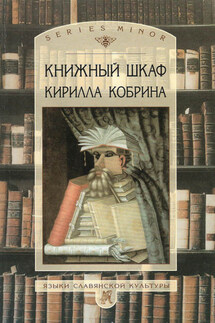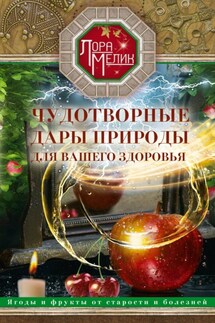«И места хватит всем…». Современная арабская поэзия и мировая литература - страница 5
История «арабского Дон Кихота» начинается в далеком 1898 г., когда алжирское издательство выпускает в свет фрагментарный перевод знаменитого романа с французского языка на арабский. Вторая попытка частичного, «конспективного» перевода-пересказа «Дон Кихота» с французского предпринимается иракским поэтом 'Абдулкадиром Рашидом уже в Каире в 1923 г. За выходом классической монографии ливанских испанистов Наджиба 'Абу Милхама и Мусы 'Аббуда «Сервантес: эмир испанской литературы» (Тетуан, 1947) следует публикация перевода с испанского восьми глав первой части романа, выполненного Алтахами ал-Вазани (1903–1972) в газетах «ар-Риф» и «Барид ас-Сабах» в 1951–1966 гг. Автором же полного перевода с испанского первой части стал 'Абдулазиз ал-Ахвани, издавший свой труд в Каире в 1957 г. Тем не менее обе части «Хитроумного идальго» стали доступны арабскому интеллектуалу лишь в 1965 г. в переводе виднейшего философа-экзистенциалиста Египта 'Абдуррахмана Бадави (1917–2002)[7]. С тех пор Дон Кихот становится объектом творческой мысли десятков литераторов Египта и Ливана, Сирии и Палестины, видевших в легендарном рыцаре не столько своего собеседника, сколько своего соотечественника, единомышленника.
Действительно, как сам роман, так и его главный герой были восприняты арабским миром как часть своего наследия – и, следовательно, как типичный образчик странствий постклассической арабской цивилизации и ее носителей в истории и культуре. Памятуя о средневековых плутовских новеллах (макамат)[8], ближневосточные литературоведы не раз подчеркивали связь новаторского для своего времени произведения с классическими жанрами арабской прозы. Для подтверждения своих тезисов теоретиками привлекался довольно обширный комплекс аргументов, затрагивающих как «акцидентальные» (такие как использование арабских имен в тексте), так и «сущностные» (вроде общих особенностей макамного жанра и сервантесовского повествования) детали[9]. Так, движение араб ского мира к «Дон Кихоту» подготавливалось (а то и обуславливалось) близостью исламского мира к его литературному и культурному универсумам, засвидетельствованной широким слоем арабской интеллигенции второй половины ХХ в.
Что касается масштабного толкования образа Ламанчского Рыцаря, то такового, увы, арабская литературная критика не знает вплоть до сегодняшнего дня. Вовлеченность «Дон Кихота» в цивилизационный простор не оставляла роману ни единого шанса на пристальный взгляд с позиций его «инаковости» – и потому квинтэссенцией довольно поверхностных размышлений ближневосточных литературоведов над узловыми смыслами произведения можно считать следующие строки авторства 'А. Бадави:
Главная тема этой истории – разрыв между состоянием и деятельностью социума […] и странной мыслью о странствующем рыцарстве; последнее есть возрождение героем Средневековья[10].
Для Бадави, как и для многих его коллег и современников, обе части «Дон Кихота» являются не чем иным, как пародией на рыцарский роман и карикатурным изображением общества времен смены ренессансной эпохи на барочную[11]; более глубоких герменевтических пластов в романе попросту не усматривалось. Однако если критики рассматривали Рыцаря Печального Образа через призму современной им социально-политической ситуации, нуждавшейся, в свою очередь, в особом анализе и, быть может, в очередной жесткой сатире, то поэты арабского мира по-своему гибко интерпретировали «дон-кихотскую» ситуацию на страницах своих