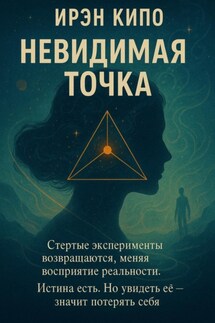Император Святой Руси - страница 53
О «чинах» в сходном понимании писал в 1563 – начале 1564 г. князь А. М. Курбский Вассиану Муромцеву. Во время реформы «сошного обложения» в России была частично проведена в жизнь реформа, близкая к «волочной помере» в Великом княжестве Литовском, позволившая разделить все оседлое владельческое население на три группы, близкие к сословным. Впрочем, ни в 1555 г., ни в 1658 г. никаких особых твердых прав «чины» не получали, да и понятий какого-либо представительства от «чинов» не сложилось. Учения Епифания Славинецкого, Юрия Крижанича и Николая Гавриловича Спафария содержат слова о формах правления, но даже близкая к автохтонной идея Спафария о трех чинах градов (царственном, изрядном и народном) является рефлексом учения Аристотеля, а не переводом российских реалий на язык теории.
Максим Грек, рассказывая о жизни на Афоне, называет среди монашеских «чинов» сапожников, кузнецов, портных, столяров, изготовителей посуды, дровосеков, виноградарей, рыбаков, переписчиков, переплетчиков230. Никакие профессиональные объединения, подобные «цехам», не объединяют этих мастеров – только сам монастырь и служение Богу. Впрочем, средневековое городское пространство было насыщено объединительными формами – например, старые названия улиц отражают единство поселений по профессиональной принадлежности. Из этого ни в Новгороде, ни в Москве, ни в других русских землях XV–XVII вв., не попавших в зону действия европейского цехового права, не складывались устойчивые объединения.
Еще один текст, в котором предложена попытка стройного описания общественных «чинов» как групп населения, выполняющих определенные роли, – это Второе послание А. М. Курбского Вассиану Муромцеву, которое относится приблизительно к 1564 г.231 Описывая «все землю нашу рускую от края до края», Курбский обнаруживает множество «нестерпимых бед и различных напастей», которые постигли «державных», «священнический чин», «воинский чин», «купецкий чин»:
И како ныне [древний змий] в нашей земли злим советом своим горняя доле постави, чины чином злыя обедники сотвори, и братиям единоверным вместо хлеба единым от других снедатися учини, умышляет вся злая беспрестани, и научает человеков а сопротивных к Богу обращатися?232
«Чины» не только тяготятся внутренними противоречиями, но и превращаются в «пожирателей друг друга». Возможно, перевод слова «чин» современным «сословие» был бы поспешным, однако «чин» приближается по своему значению в этом контексте к европейскому средневековому «ordo». Ни один законодательный текст не определяет русское общество середины XVI в. таким же образом, как князь Андрей Курбский в послании в Псково-Печерский монастырь. Но законодательство того времени уделяет мало внимания общественным стратификациям, профессиональной принадлежности, правам и обязанностям «чинов» по отношению друг к другу, к власти или Богу. При этом даже князь А. М. Курбский не ограничивается в своих сочинениях одним пониманием «социальной стратификации». Ценным, если не уникальным, источником по изучению преемственности социальных взглядов в России и в Европе становятся эмигрантские сочинения Курбского, содержащие в вопросах о «чинах» следы преемственности с его доэмигрантскими посланиями.