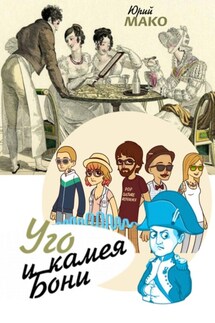Инсоленс. Пустая из Кадора - страница 41
– Я не хотел, чтобы ты боялась, – говорит он наконец, глухо, но не сдержанно. – После того, что ты увидела… после того, что я сделал с лайрами, я понимаю твою реакцию. Но ты должна знать: всё, что я делаю, – всё, – каждое решение, каждый приказ, каждый выбор – это ради одного. Ради защиты.
Он смотрит на меня прямо, не моргая, слишком долго, слишком честно.
– Моё единственное намерение как авриала – сохранять этот мир. Удерживать его от разрушения.
Я почти слышу, как за его голосом стоит тысячи не сказанных имён, лиц, сожжённых решений. Он не извиняется и не ищет прощения – не умеет и не может. Он объясняет. Почти… просит понять.
– Это то, что вы должны говорить, чтобы оправдать свои действия?
Он смотрит на меня ещё мгновение, задерживает дыхание, и только потом – почти шёпотом:
– Нет. Это то, что я должен делать… чтобы оправдать своё существование.
В библиотеке становится слишком тихо. Воздух давит, как после бури, когда ни один звук не смеет потревожить остатки разрушенного. Я не знаю, что сказать. Любая мысль, которая мелькает в голове, звучит глупо, не к месту, или слишком жестоко, или, наоборот, пугающе честно.
Отвожу взгляд, пальцы вновь нащупывают ручку, будто в ней есть опора, вес, что-то осязаемое в этом мире, где ни одно слово не гарантирует безопасности. Но на бумаге уже нет места: этот лист и так забит до краёв – и переводом, и страхом, и попыткой понять.
Я должна была бояться его. Я должна была, наверное, возненавидеть. Но сейчас я – в равной степени боюсь и его, и себя.
И вдруг в эту давящую, почти звенящую тишину проникает мысль, чуждая и простая. Не о лаборатории, не о порядке Искры, не о катастрофе.
Об Ольге.
Почти забытая за этими днями, за переводами, за попытками выжить в чужом мире, но ведь всё началось именно с неё. Она – причина, по которой я оказалась в том зале, на той выставке. Вошла в ту проклятую мастерскую, коснулась полотна, исчезла… И я всё ещё не знаю, что с ней стало, где она, жива ли.
– А вы… – я с трудом нахожу голос, он хрипит, будто простыл от этого молчания, – вы что-нибудь узнали об Ольге? Той женщине, что попала сюда до меня. Вы ведь говорили, что проверите.
Аластор меняется почти незаметно. Лёгкое движение век, крошечная тень между бровей – я вдруг понимаю, он ждал этого вопроса, и всё же жалеет, что он прозвучал.
– Я дал поручение стражам. Её ищут. Но пока без результатов.
Я киваю. Автоматически, механически, будто мы не о человеке, а о пропавшем предмете.
– Понятно.
Но ничего не понятно, только горечь в животе, только пустота, только хочется выдохнуть – да нечем. Он, кажется, это чувствует, но не делает ни шага навстречу, не тянется, не обещает. Он не из тех, кто спасает словами. Не из тех, кто врёт в утешение.
– Продолжай работу, Анна. Твоё участие очень важно. Не только для нас. Для всего.
Поднимаю глаза, и серебро в его взгляде будто чуть тускнеет, становится тяжёлым, как мокрый камень.
– И просто помни, – добавляет он, уже почти шёпотом. – Иногда меньше знать – значит быть свободнее.
И больше ничего. Только это ощущение – будто за этими словами он хотел оставить мне щит, а оставил только очередную непроницаемую границу. Он медленно встаёт, выверенно, каждое движение – осторожно-рассчитанное, как у человека, который знает: ещё секунда – и скажет слишком много, или останется слишком близко.
Пальцы скользят по краю стола, не в прощании, а будто он уносит с собой часть этого напряжения, чтобы мне стало легче дышать. Он смотрит ещё мгновение – не с приказом, не с требованием, а просто с этим невидимым, молчаливым спокойствием, под которым бьётся нечто несоразмерно большое.