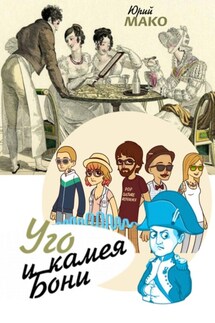Инсоленс. Пустая из Кадора - страница 39
Но уже поздно. Он поворачивает голову – медленно, плавно, как механизм, у которого нет ни одного лишнего жеста. Встречаемся взглядами. Его – неразгадываемый, слишком прямой, чтобы в нём можно было найти хоть намёк на слабость.
Тишина.
Он закрывает книгу, аккуратно возвращает её на полку. Шаг. Ещё один. Подходит ближе – идёт именно ко мне, не к кому-то за другим столом, не к очередной рукописи. Только ко мне.
И тут вдруг вспыхивает мысль: а что, если он уже знает? О лаборатории. О том, что я только что прочла. О подозрении, которое впервые пустило корни внутри меня. О том, что я уже не уверена, что могу – и хочу – ему верить.
Быстро опускаю взгляд. Перевод всё ещё передо мной, ручка в руке, а строчка о тайных экспериментах плывёт перед глазами, будто и не должна была существовать вовсе.
Он останавливается напротив – высокая тень падает на стол, разрезая остатки света.
– Ты сегодня раньше, чем обычно, – его голос ровный, глухой, как всегда, но слышится будто чуть внимательнее.
Я поднимаю глаза и понимаю: капкан захлопнулся. Только он не из железа. Он из вежливости, власти и слишком густой тишины.
– Как проходит перевод?
Сглатываю, стараюсь звучать так же спокойно:
– Нашла кое-что. Удивительное… И тревожное, если честно.
Он молчит секунду – всего одну, но в этой паузе будто накапливается давление, тяжёлое, предгрозовое. И только после этого, не проронив ни слова, он спокойно садится за стол – напротив меня. Не делает лишних жестов, не выказывает ни малейшей спешки. Просто протягивает руку – ладонь открытая, слегка повёрнутая вверх, как предложение, но и как требование одновременно.
– Покажи.
Я замираю. Эта страница, перевод – свежий, тёплый от моей руки, от моих сомнений. Чернила ещё пахнут чем-то острым, тревожным. Слова на ней – дверь, которую уже не закрыть обратно. И вдруг – короткая, как укол, мысль:
А что, если именно этой страницы он ждал? Не факта, не процесса, а самого слова, самой трещины, за которую можно зацепиться – и дальше тянуть, срывать, выдавливать всё до последнего смысла, пока в руках останется не перевод, а рычаг. Да, он так умеет. Смотреть не на тебя, а сквозь, выбирая ту самую боль, которая вскроет механизм.
Я держу страницу слишком долго, кажется. Пальцы чуть дрожат, чернила расплываются у самого края – я вдавливаю их в бумагу, чтобы ощутить хоть какую-то стабильность, хоть что-то настоящее, материальное, не выдуманное этим миром. Перехватываю взглядом его руку – спокойно, нейтрально, терпеливо открыта, но между пальцами – напряжение, как будто тянется внутренняя нить, готовая оборваться, если я скажу «нет».
И всё же – я протягиваю ему перевод. Не потому, что хочу, а потому, что если скрою – начнётся другая игра, а к её правилам я не готова.
Он берёт страницы – и я ловлю себя на том, что смотрю не на его лицо, не на глаза, а именно на руки. Те самые руки, что рвали лайров на части, сжимали воздух и разрушали живое. Руки, в которых живёт что-то большее, чем просто сила.
Но сейчас… сейчас он держит бумагу так, будто это не просто текст, а нечто хрупкое, почти одушевлённое. Пальцы скользят по листу медленно, как по коже или как по трещинам старого стекла, – в этом движении нет ни спешки, ни опасности. Только бережность, странная, почти трогательная, и она ранит куда глубже, чем жестокость.
Как это возможно? Как в одном человеке – такая безжалостная мощь и такая деликатная осторожность?