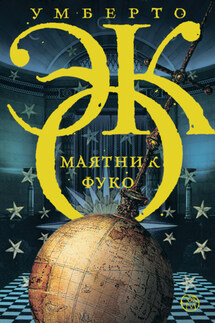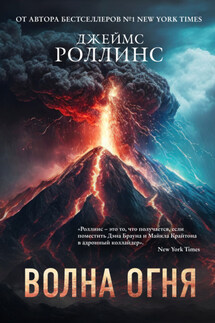Искусство и красота в средневековой эстетике - страница 2
История, которую мы намерены проследить, сложна, преемственность сочетается в ней со скачкообразным развитием и разрывами. В немалой степени это все-таки история преемственности, потому что Средневековье – эпоха авторов, без ссылок копировавших один другого, а также потому, что в эпоху рукописной культуры, когда рукописи были не слишком доступными, копирование представляло собой единственный путь к калькуляции идей. Никто не считал это преступлением, часто многократное копирование приводило к полному забвению истинного автора той или иной формулы. В конце концов, считалось, что, если идея истинна, то она принадлежит всем.
Однако эта история имеет и свои яркие моменты. Правда, они не сродни тому фурору, который вызвала картезианская формула «я мыслю» (cogito). Маритен заметил, что только начиная с Декарта мыслитель предстает как «дебютант в области абсолюта» и после него все философы стремятся, в свою очередь, дебютировать на совершенно новых подмостках. Люди Средневековья так не актерствовали, они считали, что оригинальность – грех гордыни (с другой стороны, не следует забывать, что в ту эпоху ставить под сомнение установившуюся традицию было рискованно, причем не только в академическом плане). Однако и Средневековье (указываем на это обстоятельство на тот случай, если найдется кто-либо, о нем не ведающий) было способно на высокие мысли и гениальные прозрения.
2. Эстетическое мировосприятие Средневековья
2.1. Эстетические интересы средневекового человека
Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности, причем оно наделило эти темы новым смыслом, соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид. Однако усвоенные из указанных источников темы, проблемы и выводы можно было понять и как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как Средневековье, обращаясь к тем же самым темам, основывалось на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышление о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции.
Однако критическая позиция средневекового человека не исчерпывается этим аспектом: наряду с культом общих понятий, унаследованных как некий кладезь истины и мудрости, наряду со стремлением воспринимать природу как отражение трансцендентного, как препятствие и помеху к свободному распространению идей, в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе.
Признавая наличие подобной спонтанной реакции на красоту природы и произведений искусства (быть может, и обусловленной доктринальными стимулами, но выходящей за пределы сухой книжности), мы можем быть уверены в том, что, когда средневековый философ говорит о красоте, он не только имеет в виду некое отвлеченное понятие, но обращается к конкретному опыту.