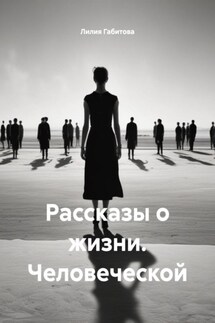Истоки и судьба идеи соборности в России - страница 7
Иначе говоря, всегда есть возможность списать все на то, что, высказывая то или иное мнение (ошибочное, как показала дальнейшая история Церкви), Папа не собирался выступать «как пастырь и учитель всех христиан», а только в частном порядке отвечал на вопрос частного человека и при этом недостаточно серьезно отнесся к делу и не получил той «Божественной помощи», на которую может при случае рассчитывать (как, например, Папа Гонорий I, когда он, отвечая на запрос восточных патриархов по поводу учения монофелитов, однозначно присоединился к ереси). А кроме того, Папы ведь могут рассчитывать лишь на ту непогрешимость, «которою Божественный Спаситель благоволил наделить Свою Церковь» на данном этапе истории, и нельзя требовать от Папы больше, чем Бог дает Своей Церкви знать.
Апология католичества часто строится на утверждениях, что Папа Римский вовсе не занимает в ней столь исключительного положения, какое ему приписала молва, что непогрешимость – а точнее безошибочность – его во многом условна, а роль его сводится к внешнему выражению внутреннего единства Церкви. Особенно такой ход мысли характерен для русских мыслителей, испытывающих симпатии к католицизму. Вот что пишет, например, Соловьев: «Необходимость объединительного центра (centrum unitatis) и первенствующего авторитета в земной Церкви вытекает не из вечной и безусловной сущности Церкви, а обуславливается ее временным состоянием, как Церкви воинствующей. Отсюда ясно, что преимущества центральной духовной власти не могут распространяться на вечные основы Церкви. Первая из этих основ есть священство, т.е. преемственный от апостолов дар рукополагать других в священные должности, и в этом отношении носитель центральной власти, скажем Папа, не может иметь никакого преимущества перед другими епископами (…) Что касается до другой основы Церкви – таинств, то в совершении их Папа не может иметь никакого преимущества и перед простыми священниками. Наконец, что касается до третьей основы Церкви – откровенной истины христианства, то здесь Папа не может иметь никакого преимущества даже перед простым мирянином. Иметь в своем исключительном владении и распоряжении истину Христову, так же мало принадлежит Папе, как и последнему мирянину. (…) Поэтому, когда Папу называют Главою Церкви, то это, во всяком случае, есть выражение неточное»>13.
С православной точки зрения это выражение, конечно, является неточным, даже прямо кощунственным, ибо для православия есть только один «глава – Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4:16). Для католицизма дело, однако, обстоит не совсем так.
В своем апологетическом порыве и для пущей красоты схемы Соловьев допускает небольшую неточность относительно «второй основы», забывая, что у католиков и миропомазание (конфирмацию) не может совершать простой священник, а только епископ, и весьма большую неправду, говоря о «третьей основе», уравнивая Папу в правах даже и с «последним мирянином» в вопросе обладания истинами веры, тогда как мирянам и Библию-то читать было нельзя, согласно декрету Папу Григория IX (1231). До Библии мирян допустил II Ватиканский Собор (1962-1965), до которого в то время, когда Соловьев писал свою статью оставалось еще почти 80 лет. А в церковной иерархии, согласно католической догматике, от ступеньки к ступеньке возрастает «charisma veritatis» – благодатный дар истины, находящий на римском престоле свое полнейшее выражение.