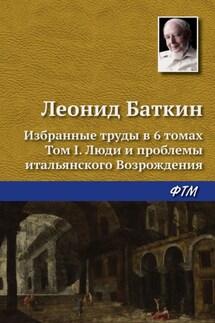Читать онлайн Леонид Баткин - Избранные труды в 6 томах. Том 1. Люди и проблемы итальянского Возрождения
© Баткин Л. М., автор, 2024
© Доброхотов А. Л., вступительная статья, 2024
© Агентство ФТМ, Лтд., 2024
О своеобразии творчества Л. М. Баткина
Собрание сочинений, в отличие от простой суммы произведений, создает эффект некоего авторского космоса, в котором любой текст видится как часть целого. Теперь так можно взглянуть и на работы Леонида Михайловича Баткина, ожидая увидеть то, что сам он назвал «призматическим эффектом». Сочинение в Собрании становится гранью системного целого: призмы, которая на свой лад преломляет свет и дает свой спектр смыслов. К счастью, в нашем случае предисловие к Собранию не должно подводить итоги и резюмировать оценки не только потому, что этого не позволяют ни возможности пишущего, ни отсутствие должной временной дистанции, но и потому, что Леонид Михайлович продолжает активно работать и менять тип призмы новыми гранями. Этим предисловием хотелось бы задать правила навигации в творческом мире Л. М. Баткина. Произведения, в конце концов, могут сами постоять за себя; жизненный путь ярко описан самим их автором[1], но наш читательский путеводитель должны создавать мы сами, потому что все рефлексии и самооценки автора автоматически попадают в рубрику его произведений.
Первый шаг к пониманию, как мне представляется – это осознание места Л. М. Баткина в судьбе своего поколения. «Поколение» здесь надо трактовать достаточно широко: речь о тех, кто творчески заявили о себе в 1960-х – начале 1970-х и даже получили номинацию «шестидесятников», но, как оказалось, сохранили креативность и влияние и по сей день. Это – поколение, которое сделало невероятно много. Почему, еще предстоит изучить и понять будущим историкам, но факт остается фактом: именно их наследие сейчас стало столь же ценным культурным ресурсом XX века, как и Серебряный век или новаторские 20-е. Если говорить о гуманитарных науках, то очевидно, что именно с этим поколением пришла острая «тоска по мировой культуре», которая стала быстро наполняться событиями, идеями, свершениями. Это был весьма непривычный модус мышления для советских времен – лучшие умы поколения «перечитывали» мировую культуру, экзистенциально переживали ее, откликались на идеи западных современников, сообщали о своих интеллектуальных исканиях весьма личностным образом и всеми доступными по тем временам способами и – не последнее дело – были востребованы обществом выпавшей из истории страны. Сейчас трудно представить тогдашнюю охоту за книгами и журналами, переполненные аудитории лекций и конференций (зачастую очень специальных по тематике), накал споров в кружках и семинарах: это была попытка добрести из пустыни до какого-то культурного оазиса, чистота источников коего – допускаю – наивно преувеличивалась. Не стоит забывать и о прямом участии многих «новых гуманитариев» в политической жизни: зачастую – не на вторых ролях. Как бы там ни было, время позволило сфокусироваться разрозненным течениям нашей послевоенной гуманитаристики на отнюдь не тривиальной (после двух мировых войн и триумфа тираний) проблеме интерпретации мировой истории и ее культурного наследия. Возникшее затем в 70-е–80-е идеологическое давление заставило людей, включившихся в эту тему, сжаться в одну сравнительно компактную группу. Е. М. Мелетинский в шутку называл ее «бродячим цирком»: несколько десятков человек по всей стране, которые хорошо друг друга знали. Как правило, они работали в пространстве, заданном западными научными школами, но очень хорошо представляли, какие отечественные традиции они продолжают. Это была работа живого научного организма с международной интеллектуальной средой, в которой можно чужое перерабатывать в свое: московско-тартуская школа с ее семиотикой и структурализмом, отечественная версия «школы Анналов», своеобразная христианская герменевтика, обновленное востоковедение – эти и многие другие научные маршруты хорошо «рифмовались» с теми прежними направлениями российской мысли, которые к моменту их решительного искоренения в конце 20-х давно уже расстались с ученической вторичностью и в чем-то были авангардом для своей эпохи.
Для гуманитариев-шестидесятников интегрирующей дисциплиной в этой ситуации стала «культурология»: именно в этой дисциплинарной оболочке ученые выработали общие языки исследования и интерпретации, отсюда вышел целый кластер разных концепций и методов. Возникнув из конкретных гуманитарных дисциплин и западных парадигм, течение быстро приобрело черты родной всеохватывающей «софиологии» культуры, но не потеряло при этом – благодаря профессионализму исследователей – научной фундированности. Культурология смогла заполнить опасный вакуум в сфере образования и стать школой плюрализма, столь трудно прививающегося на русской почве, в первую очередь из-за того, что она гармонично соответствовала традиционному влечению русского ума к широким обобщениям и эсхатологическим ожиданиям обновления бытия. Но также и потому, что ресурс, накопленный учеными, позволял насыщать эти рискованные импульсы конкретным содержанием. Немалую роль сыграло встречное движение гуманитарных и естественных наук, стремившихся к мировоззренческому синтезу и «гуманитаризации» естественнонаучного образования, которое в значительной степени утратило аксиологические основы. Возник интерес к компаративистике, предполагавший, что сравнительное изучение культур сможет вытеснить абстрактный универсализм. Обнаружилось также, что анализ языков культуры – неплохой ключ к пониманию многих тайн русской истории, ибо Россия – страна косвенного выражения, несмотря на стремление к прямоте и непосредственности. Можно даже говорить о предпосылках культурологического метаязыка, который не возник на уровне лексики и терминологии, но – во всяком случае – выявил свою возможность в дискуссиях 90-х гг. в качестве междисциплинарных конвенций и герменевтических приемов. Проще говоря, признавалась возможность и необходимость «перевода» результатов любого (не только гуманитарного) специального исследования на язык междисциплинарной коммуникации. Синтаксис и семантика такого «языка» создавались ad hoc, но само требование делать региональные границы науки прозрачными, как правило, соблюдалось. Пожалуй, одним из главных результатов этой научной тенденции стала уверенность в том, что культура в целом действительно может быть предметом науки: как в ее эмпирической версии (культурология), так и в метафизической (философия культуры). Или – если то же выразить, двигаясь в обратной последовательности, – предметом любой гуманитарной науки оказывается, так или иначе, культура, поскольку она является объясняющим целым для любой эмпирической части. Объяснение становится возможным благодаря неявной интерпретации мира, которая содержится в любом, сколь угодно малом творческом акте. В культуре нет «большого» и «малого»; любая объективация творчества несет свой проект целого и систему отношений с другими объективациями, и степень ее валентности определяется отнюдь не масштабами обобщения[2].
Остановимся, чтобы не отнимать хлеб у будущих летописцев эпохи, и будем считать этот импрессионистический очерк минимальным контекстом для понимания работ Л. М. Баткина. Для образованного читателя творчество Леонида Михайловича в первую очередь ассоциируется с рядом блистательно выполненных культурно-исторических портретов европейских гениев и с глубокими размышлениями над идеей личности, которые придают этой галерее философский смысл. Но я предпочту начать разговор с другой темы: с работ об «онтологии истории», которые, как мне кажется, высвечивают стержневые принципы, ведущие мышление Л. М. Баткина[3]. В этих работах автор вместо унитарной «Истории вообще» предлагает нам увидеть четыре последовательных Истории, соединенных отнюдь не тривиальной связью. Первая история – это разрозненные очаги первобытности, жестко детерминированные природной средой, но уже в своих «микрособытиях» содержащие исторический процесс. Вторая – это история традиционных обществ, начинающаяся с рождением древних цивилизаций. Человеческие общности в этом периоде укрупняются и сгущаются, но вместе с тем углубляются различия, приобретая черты уникальных своеобразий, а не однообразных серийных различий. Это – глубоко различные, расколотые на большие культурные миры общности, каждая со своей исторической скоростью, со своей «температурой». Но они уже связаны Всемирностью и могут измеряться «по одной всемирной линейке». Двумя онтологическими полюсами человеческой истории явно становятся Всемирность и Уникальность, скрытые в Первой истории как потенция. Третья история – это Новое время: беспрецедентная модернизация, связанная со становлением раннего капитализма и крупных национальных государств, и нарастающий процесс глобализации. Разнородные и разнохарактерные элементы переусложненной Второй истории уступают место более простым и динамичным моделям, для их структурных связей характерны линейность и схематичность. Но у Третьей истории появляется свой тип сложности: резче выявляется неравномерность истории, конфликтнее и сложнее складываются отношения традиционализма и вестернизации. После Второй мировой войны начинается подготовка к Четвертой истории: истории объединенного человечества, способного к коллективным разумным решениям.
Важно, что в предложенной Л. М. Баткиным модели мы имеем дело именно с разными Историями, которые не выстраиваются в однозначную последовательность и не могут быть описаны языком одной аксиологии. При больших переходах меняются «правила игры», причем эта смена не выводима из событий предыдущей эпохи. Поэтому меньше всего на данную модель похож просвещенческий идеал прогресса. Парадоксальным образом принцип всемирности истории прочно привязан к той ломаной линии, которую автор называет, уклоняясь от прогрессистской терминологии, историческим движением «в будущее». Всемирность как раз и обнаруживается благодаря цивилизационным разрывам, которые не позволяют обществу застыть в локальной среде и темпоральной нише. Поэтому, как полагает историк, в каждой эпохе и даже в значительном временном интервале можно найти «системный вектор перемен», выводящий в следующую эпоху. Векторы эпох нельзя механически сложить в прямую линию, поскольку они радикально меняются при эпохальных переходах, но сопоставляя и изучая их ряды, можно обнаружить «резюмирующий и сквозной вектор». Острота проблемы в том, что «всемирность истории тоже исторична»[4].
Этот тезис решительно отличает историософию Л. М. Баткина и от прежних теорий прогресса, и от постструктуралистской борьбы с «большими нарративами». Инерция логических клише склоняет к тому, чтобы под «всемирным» понимать родовую общность смыслов и целей, распределяя всю динамику и конфликтность между видовыми ячейками, но данная концепция предлагает нам увидеть источник беспокойства в самом «всеобщем», которое не дано априорно, а только задано, и потому открыто историчности в неизмеримо большей степени, чем любая его «особенная» часть. Если прогресс понимать как реализацию некой программы, то в версии Л. М. Баткина мы имеем дело со способностью истории к бесконечному самопрограммированию, константами которого являются только ценности Всемирного и Уникального. Эта версия также вполне избавляет нас от страхов перед «большими нарративами»: ведь сама сингулярность, индивидуальная особенность потому и обособилась от общего, что смогла каким-то образом перебросить мостик ко всеобщему и сделаться его местоблюстительницей. «Большой нарратив», таким образом, является главным условием существования и перспективной задачей индивидуального. И поскольку нет никакой содержательной предданости этого «нарратива», Всемирное и Уникальное оказываются его единственными источниками, обреченными на бесконечную историчность. Л. М. Баткину смешна расхожая формула «история не имеет сослагательного наклонения». Разумеется, только в этом наклонении она и существует. Но само присутствие в сослагательности «если» говорит нам о неотъемлемости исторической логики. В связи с этим Л. М. Баткин специально обращает внимание на антиномию необходимости и свободы в истории. Он усматривает в истории постоянные разрывы не только тотальной, но и локальной детерминации, предпочитая понимать качественные переходы к новому как внезапные мутации. Каузальная необходимость, конечно, связывает события, но порождает их свобода воли. «Свобода воли – это предикат зрелого сознания, а не его утраты. [… ] Человек, действующий не по размышлению над ситуацией, несвободен, но, впрочем, и не подчиняется неизбежному. Он – вне напряженной дихотомии и неразрывности этих понятий»