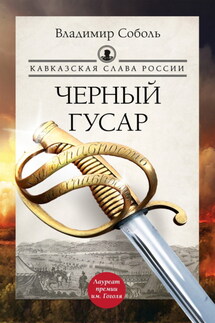Кавказская слава России. Шашка и штык - страница 38
Но при последнем натиске Петр Артемьевич получил две пули – одну в плечо, другую в колено. Его унесли, один батальон отошел с генералом, второй оставался пока с той стороны, готовый, впрочем, в любую минуту отступать перекатом, держа противника на расстоянии залпами цепей и плутонгов.
Мадатов тоже отводил своих людей к переправе. Он собрал подле себя сотни полторы оставшихся сравнительно невредимыми и остановился, пропуская мимо раненых, увечных, убитых.
Сам он тоже был перемазан грязью и кровью, слава богу, чужой. Ментик его был располосован ударами палашей, свисал с плеча грудой лохмотьев, но на теле не было ни единой царапины. Что-то саднило на правом боку, кажется, все-таки он пропустил один удар, пришедшийся все же плашмя. Но куда больше болела у него левая часть груди, словно чужая рука залезла к нему под ребра, сжимала и сдавливала почти до удушья.
«Не пожалею ни лошадей, ни людей», – вдруг вспомнил он свои же слова, брошенные Приовскому еще летом. И вот этот день настал. И сам Анастасий Иванович мертв, и нет больше генерала Ланского, и лежит где-то тело верного товарища Фомы Чернявского, и вороны уже начинают подбираться к трупу черного жеребца, сколько лет выручавшего его в любых переделках. Сколько еще гусарских лошадей осталось на этом поле, и сколько их хозяев улеглись вместе с ними. Кому-то же еще повезло – он мог вернуться на правый берег вместе с полком, корпусом, армией.
Кто еще мог держаться, ехал сам. Кого-то поддерживали товарищи. Других везли между седел. Иных – перекинув через седло.
Гусар, обняв за пояс, придерживал офицера, склонившегося головой к самой гриве. Левый рукав раненого был завернут выше локтя. Приглядевшись, Валериан узнал Пашу Бутовича. И только по тому, что к чемодану за ленчиком привязана была замотанная в тряпку гитара.
Два унтер-офицера, спешившись, коротко взяв с двух сторон за поводья, вели коня, судя по цвету вальтрапа, французского. Чье-то тело, замотанное в плащ, свисало по обоим бокам животного. Валериан подъехал ближе, гонимый смутным предчувствием.
Ближний к нему гусар, тоже раненый, с висевшим на перевязи предплечьем, поднял голову. Это был Тарашкевич.
– Фому Ивановича везем! – вымолвил он с мрачной торжественностью.
Валериан протянул руку, желая откинуть кусок материи, посмотреть последний раз на человека, столько раз выручавшего его и других. Он спас его и в этом сражении, а вот сам Валериан помочь ему не сумел.
– Лучше не трогайте, ваше сиятельство, – остерег его Тарашкевич. – Не надо на него сейчас вам смотреть. По нему ведь ровно как эскадрон проскакал. Сами с трудом опознали, только по ножу в рукаве. Увезем на тот берег да похороним по-христиански…
– Да, конечно, – выдохнул с силой Мадатов. – Похороним. И его, и Ланского с Приовским, и всех других.
– Много хоронить придется, ваше превосходительство, – проронил глухо гусар, державшийся с другой стороны.
Мадатов отъехал, ничего не сказав. В словах гусара ему почудился некий укор, словно бы он, полковник, был виноват, что повел людей на практически верную смерть. Кто приказал ему приносить в жертвы их жизни – Ланской, Ланжерон, Чичагов, государь император из своего Петербурга?
Носилки пересекли ему путь. Карабины, привязанные к седлам, сабли, брошенные поперек и покрытые гусарским плащом. Половину головы раненого закрывала повязка, но он все-таки узнал его – тот самый мальчик, корнет Замятнин, с которым они ездили месяц назад к Земцову. Два юноши столкнулись грудь с грудью, лоб в лоб, два петушка, которых с улыбкой мирили взрослые люди. А теперь одного уже нет, и выживет ли второй – бог знает.