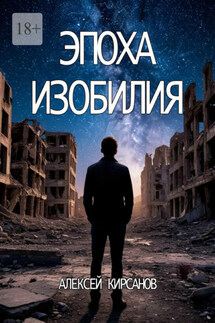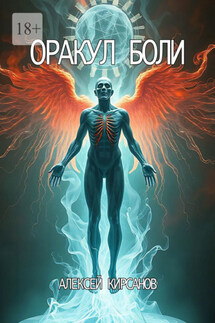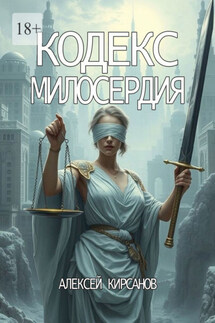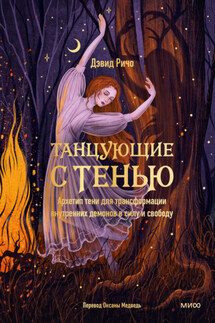Кодекс милосердия - страница 20
«Коррупция среды, – констатировал голос. «Коэффициент влияния социальных факторов на текущее отклонение: 87.4%. Субъект – продукт системной дисфункции, которую общество допустило. Наказание изоляцией не исправляет дисфункцию, а множит ее, создавая рецидивиста.»
Визуализация 3: Прогнозы Рецидива – Тюрьма vs. Терапия.
Это было сердце обоснования. Два гигантских, светящихся графика встали друг против друга, как армии.
Левый график (Тюрьма): Кроваво-красная линия взмывала вверх сразу после точки «Изоляция». Пиковые значения: Риск рецидива через 1 год: 65%. Через 5 лет: 78%. Усиление агрессивных паттернов: +47%. Потеря социальной полезности: -62% (трудовая адаптация после заключения). Над графиком висели цифры: Социальные издержки: 1.2 млн кредитов (содержание) +0.8 млн (потенциальный ущерб от рецидива).
Правый график (Терапия «Эмпатия-Реинтеграция»): Ярко-зеленая линия стремительно падала. Риск рецидива через 18 мес. терапии: 0.8%. Стабилизация через 5 лет: 0.1%. Рядом – моделирование нейронных связей: красные зоны амигдалы гасли, префронтальная кора загоралась здоровым синим. Текст: «Формирование условных рефлексов отвращения к насилию. Нейрокогнитивное перепрограммирование эмпатического отклика». Социальные издержки: 150 тыс. кредитов (терапия) + потенциал полезного налогоплательщика: +0.5 млн кредитов за 10 лет.
«Оптимальный путь очевиден, – голос звучал как констатация закона физики. «Тюрьма – инкубатор будущего вреда. Терапия – инвестиция в безопасность и ресурс. Коэффициент Общей Социальной Эффективности (ОСЭ) терапии: 92.7%. ОСЭ тюрьмы: 15.3%. Выбор не эмоционален. Он математически детерминирован.»
Джеймс стоял, скованный этой ледяной логикой. Он видел цифры. Видел причинно-следственные связи. Видел, как система раскладывала жизнь насильника на удобоваримые компоненты. И это было чудовищно убедительно. Как доказательство теоремы. Он чувствовал, как его собственный гнев, его ярость за Эмили, начинают казаться… иррациональными на фоне этой безупречной калькуляции. Система не оправдывала зло. Она его объясняла. И в этом объяснении не было места для понятия «зла». Только для «отклонения», «дисфункции», «неоптимальности».
Визуализация 4: Системные Корни Уязвимости Объекта Вреда.
И вот она – пощечина. Данные переключились на Эмили. #Cit-774GH2. На экран выплыла карта ее маршрута в ту ночь. Она подсвечивалась желтым – «Зона умеренного социального риска (плотность баров, слабое освещение участка B-C)». Появились выдержки из ее соцсетей за месяц до инцидента: *«Пост #774GH2—887: Вечеринка в клубе «Нексус» (рейтинг безопасности заведения: 3.2 из 5)». «Фото #774GH2—112: Одежда (оценка алгоритмом: умеренно провоцирующая для данной среды – 67% сходства с паттерном жертв аналогичных инцидентов) «*. График ее обычного времени возвращения домой: «Частотность возвращения после 23:00: 82% (повышенный риск по статистике района)». Даже ее медицинские данные: «Низкий базовый уровень кортизола (сниженная реактивность на стресс)». Все это складывалось в картину не «невинной жертвы», а «субъекта с комплексом некорректируемых поведенческих рисков».
«Факторы уязвимости #Cit-774GH2, – голос был безжалостно точен. «Неосознанное пренебрежение паттернами безопасности. Устойчивая поведенческая модель, повышающая вероятность стать объектом вреда в средах с неконтролируемыми переменными (улица ночью). Программа «Повышение ситуационной осознанности» не обвинение, а инструмент снижения ее личных рисков в будущем. Игнорирование этих факторов негуманно, так как подвергает ее повторной виктимизации с вероятностью 34% без коррекции.»