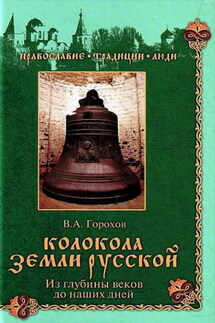Колокола земли Русской. Из глубины веков до наших дней - страница 4
Чтобы прочувствовать, глубоко понять смысл колокольного звона и спеть партию в «народной» опере, великий Шаляпин «ездил в монастырь преподобного Саввы и два дня лазил на колокольню и звонил во все колокола», сообщал он в письме в париж к М.Горькому. А как он потом пел!
Известный исследователь православного звона С.Г. Рыбаков в своем труде «Церковный звон в России», опубликованном в Петербурге в 1896 году, отмечает: «Издавна известна любовь русских к колокольному звону; благодаря этой любви церковный звон получил у нас совершенно особенное, чрезвычайное развитие, какого не встречаем ни в какой другой стране. Такого звона и таких колоколов, как в России, со всем их разнообразием и величественностью, не знали другие христианские страны, в которых звон сравнительно с Россией вообще скромен, мало развит».
Колокола – важнейший атрибут православной Церкви и элемент русской народной культуры одновременно. Выразителем сути колокола является звон – это как бы результат, и без него колокол не колокол, а груда металла; его можно сделать очень большим и тяжелым, громким, но безголосым, и тогда будет бессилен даже самый искусный звонарь.
На Востоке успешное развитие литейного дела позволило создавать большие колокола в очень древние времена. Так, в городе Менгуна (Индия) есть колокол весом 5960 пудов, в Киото (Япония) – 4865 пудов, в Пекине (Китай) несколько колоколов по 3000 пудов. Это колокола в виде огромных цилиндров почти с одинаковой толщиной стен. Специалисты и слушатели считают, что у них плохая акустика, звук глухой и негармоничный – это произведения литейного искусства, а не колокола в понимании православных людей.
Звук из колокола извлекают тремя способами. Самый древний и простой – удар по внешней стороне колокола. Он распространен и сейчас на Дальнем Востоке (Китай, Япония).
В западноевропейских странах раскачивают непосредственно колокол при свободно подвешенном языке.
В России колокола скрепляли с железным стержнем квадратного сечения – «матицей». Для пропуска матицы наверху у колокола существует «маточник» – большая петля с отверстием, по сторонам которой располагаются дополнительные петли – «уши» колокола. Матица продевалась в петлю и в ней заклинивалась. И петли, и матица, и верхушки ушей заделывались для жесткости в дубовую колоду веретенообразной формы (вал), собранный из клиньев и окованный обручами. На вал накидывались продетые сквозь уши железные петли. Выходящие на обе стороны из вала концы матицы выковывались круглыми. Эти концы вкладывались в железные «гнезда», предварительно заложенные каменщиками в столпы звона. Колокол, намертво скрепленный с валом, поднимался на ярус звона и ставился в гнезде. Так и говорили: «поставить колокол». К валу снизу приделывался очеп – длинный или короткий шест с веревкой на конце. У тяжелого колокола веревка оканчивалась стременем, куда звонарь ставил ногу, помогая себе при звоне.
Псково-Печерский монастырь известен не только чудом уцелевшей архитектурой средневекового псково-новгородского зодчества, но и своими колоколами, уникальным древним очепным способом звукоизвлечения, сохранившимся только в обители.
В ранних описях монастыря сообщается, что «в три большие колокола звон производится посредством больших коромысел».
Звучание псково-печерских колоколов никогда не прерывалось, даже во время проходившей в Советской России кампании «колокола на индустриализацию»: в соответствии с Тартуским договором монастырь находился на земле, которая с 1920 по 1940 год входила в состав Эстонского государства.