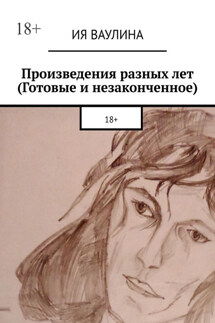Комментарий к «Критике чистого разума» Иммануила Канта - страница 6
Особое внимание Коген уделяет роли непрерывности в обосновании изменений, где Кант, опираясь на исчисление бесконечно малых, показывает, что переход между состояниями возможен лишь через бесконечные степени реальности. Это, по Когену, не просто математическая аналогия, а доказательство того, что синтез основывается на априорных структурах рассудка, которые придают реальности ее количественную и качественную определенность. Здесь прослеживается связь с марбургской школой неокантианства, где математизация естествознания понималась как раскрытие априорных условий познания.
Третья аналогия, посвященная взаимодействию, завершает систему категориального синтеза, объединяя пространство и время через динамическое общение субстанций. Коген подчеркивает, что одновременность не сводится к пространственной смежности, а требует взаимного влияния (commercium), что делает возможным восприятие объективного порядка. Это, по его мнению, указывает на глубокую связь физики и трансцендентальной философии: материя как носитель взаимодействия становится условием эмпирического познания, а пустое пространство – лишь границей опыта.
Постулаты эмпирического мышления и проблема модальности.
Коген подчеркивает, что постулаты эмпирического мышления у Канта – это не просто аналитические определения, а синтетические принципы, регулирующие отношение познания к его объекту. Возможность, действительность и необходимость трактуются не как метафизические свойства вещей, а как условия опыта, что соответствует кантовскому трансцендентальному методу. Однако Коген идет дальше, акцентируя, что эти постулаты раскрывают не столько содержание познания, сколько его структуру, связывая категории с эмпирическим применением. Это предвосхищает неокантианский тезис о примате метода над онтологией: познание конституирует свой предмет, а не отражает готовую реальность.
Особенно важен его анализ постулата возможности, где Кант утверждает, что возможное – это то, что согласуется с формальными условиями опыта. Коген подчеркивает, что здесь речь идет не о логической непротиворечивости, а о синтетической возможности, которая требует связи с созерцанием и понятием. Это напрямую связано с неокантианской критикой психологизма и натурализма: возможность познания определяется не психологическими законами, а априорными структурами. Современная философия науки, особенно в лице конвенционалистов и структуралистов, во многом наследует этот подход, отказываясь от наивного реализма в пользу анализа условий познаваемости объектов.
Опровержение идеализма и проблема объективности.
Коген детально разбирает кантовское опровержение идеализма, где Кант доказывает, что сознание собственного существования во времени предполагает существование внешних вещей. Коген акцентирует, что это не психологический, а трансцендентальный аргумент: внешний опыт не выводится из внутреннего, а является его необходимым условием. Это имеет далеко идущие последствия для философии сознания и эпистемологии. Современные дискуссии о реализме и антиреализме, например, в феноменологии и аналитической философии, часто возвращаются к этому кантовскому ходу, хотя и переформулируют его в терминах языковых игр или интенциональности.
Коген также обращает внимание на то, что Кант различает «представление» (как произвольную комбинацию представлений) и «способность к представлению» (как синтетическую функцию, обеспечивающую единство опыта). Это различение важно для понимания того, как возможна объективность: не через пассивное восприятие, а через активный синтез. В неокантианстве это развивается в учение о «чистом познании», где предмет конституируется в акте мышления. Современные когнитивные науки, исследующие роль категоризации и схем в восприятии, во многом следуют этой линии, хотя и с натуралистическими коррективами.