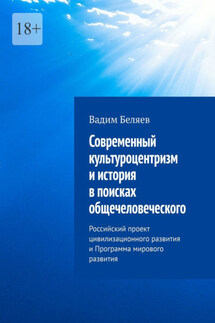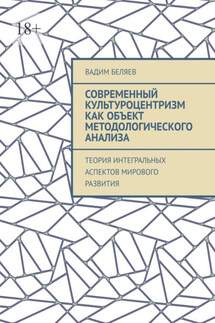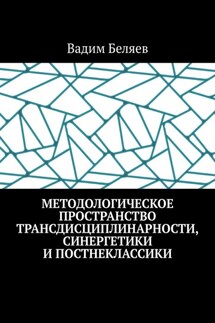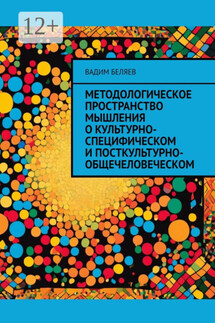Консерватизм и методологическая культура - страница 3
Проанализируем сказанное.
Во-первых.
Надо обратить внимание на то, что Даренский отказывает «реальному коммунизму» в том, чтобы быть воплощением некой идеальной программы. Возникает вопрос: на каких основаниях? Основаниями оказываются возможности проинтерпретировать основы советского общества как трансформы общества дореволюционной России. Тогда возникает вопрос относительно логичности такой интерпретации. Вроде бы достаточно очевидно, что коммунизм как социально-политическая идея возник в Западной Европе нового времени. Если не идти дальше в историю и не проводить параллели между антропологической революцией христианства и коммунизмом нового времени, то не будет оснований сводить коммунизм к цивилизационным особенностям какой-либо социокультурной области. У марксистского коммунистического проекта есть своя идеальная программа. Если говорить совсем просто, то это программа преодоления классового неравенства и эксплуатации человека человеком, развития деятельностных возможностей человека и утверждения его творческой сути. Кроме того, это программа освобождения-объединения человечества, основанная на преодолении его изначальной разделенности культурно-национальными мирами (интернационализм). Безусловно, это идеальная программа, которую можно считать нереализуемой или несоответствующей человеческой природе. Но отказывать марксизму в наличии этой программы просто неадекватно исторической реальности. Так почему Даренский рассуждает так, словно такой программы либо вообще нет, либо её можно игнорировать?
Ответ кажется довольно простым: это является следствием уже принятой им позиции, по которой советская система не имела ничего своего, даже в отношении идеалов. Если сделать ход в противоположном направлении, то должно получиться, что у советской идеологии была идеальная программа, достойная рассмотрения. Но реализация этой программы оказалась такой, что, соединившись с логикой системной социальности, она стала скорее обслуживать эту социальность, чем освобождать человека от неё.
Надо акцентировать, что идеальное содержание марксизма является попыткой придать новую реализационную логику просвещенческой программе освобождения-объединения, выраженной в лозунге «Свобода. Равенство. Братство». Марксизм (в противоположность буржуазному либерализму) по-новому акцентирует классовую борьбу и эксплуатацию человека человеком. В эту борьбу включается и буржуазный вариант реализации просвещенческих идеалов. Марксизм пытается преодолеть и этот тип эксплуататорского общества. В этом смысле идеальный пафос марксизма утверждает новый этап мирового освобождения-объединения, новый этап борьбы с негативно понимаемой общественной заданностью человека. Во всяком случае, в марксизме присутствует в качестве центрального идеального содержания именно это. Актуализация этого в марксизме ХХ века выражается в разного рода «критике системы» (чем, например, занимается Франкфуртская школа, которая акцентирует пафос освобождения от негативно понимаемой социальной заданности).
Если мы будем принимать всё это к сведению, то нам придётся разделить идеально-проектный и реализационный планы советской системы и говорить о том, как соответствовали эти планы друг другу. Нам придётся говорить о непростой логике реализации идеалов вообще. Придётся не просто не игнорировать марксистскую идеальную программу, а показывать её генезис, показывать, каким образом дореволюционная Россия могла оказываться реальностью, подлежащей трансформации с точки зрения марксистской программы. Показывать непростые метаморфозы идеальной программы при её реализации в конкретике советской системы и т. п. Получится сложная логика, которую нельзя будет просто так свести к логике примитивного выживания, с одной стороны, и к остаточным эффектам «традиционной православной цивилизации» – с другой.