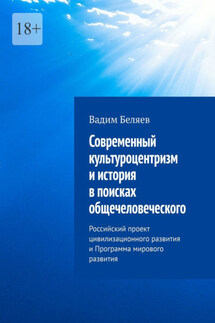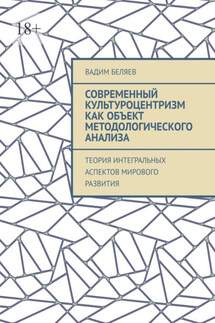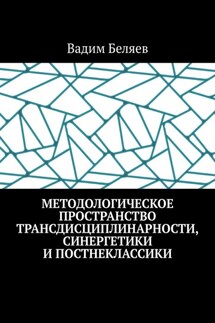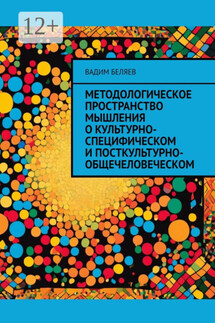Консерватизм и методологическая культура - страница 4
Как и раньше, можно говорить о том, что дискурс Даренского сильно упрощает реальность, что в свою очередь является снижением уровня методологической культуры. Даренский трактует ту социальную инерцию, которую можно признать существующей при переходе от царской России к советской, как чисто позитивную. Это проявление чисто позитивных свойств «традиционной православной цивилизации». Но более логичным является противоположная точка зрения, которая рассматривает негативные аспекты советского авторитаризма-тоталитаризма как проявление остаточной логики имперской системности. Эту логику, например, рассматривает А. Ахиезер в своей книге о «колее» русской истории4. Его логика не является безупречной, но она утверждает важную идею об инерционном влиянии институтов и принципов массовых слоев народа на действия правящей элиты.
Для того чтобы показать, как можно актуализировать логику идеального марксистского проекта и его реализационную логику в рамках советской социальной системы, проделаем мысленный эксперимент и будем критиковать «православную цивилизацию», основываясь на логике Даренского. Мы должны будем утвердить в качестве главной объяснительной схемы безусловную позитивность языческой культуры. Православную цивилизацию мы будем трактовать как чисто негативную. Всё позитивное содержание этой цивилизации мы будем утверждать как остаточное проявление логики языческого мира. Те качества, которые у Даренского производны от православной цивилизации («от терпения до потребности в вере и идеале»), будут производны от языческого мира. Православие будет рассматриваться как вообще не имеющее своей идеальной программы. По какой логике придется действовать тому, кто захочет восстановить идеально-проектные права православия и позитивность православной цивилизации? По той, которую применял я, восстанавливая позитивное содержание марксистской программы и советской системы. Надо будет раскрыть идеально-проектное содержание православия. Надо будет говорить о непростой логике реализации христианского вероучения и христианской церкви в условиях её симбиоза с социальной системностью. Надо будет показывать все основные метаморфозы, которые претерпевают институционализированные церковь и учение (например, возможные эпизоды подчинения церкви светской власти, необходимость оправдывать логику наличной социальной системы и т.п.). Это будет путь усложнения, в противоположность пути упрощения, который будет занимать условный критик православной цивилизации.
Во-вторых.
Далее следует обратить внимание на то, что суть перехода от советской системы к постсоветской описывается Даренским как переход к потребительской идеологии. Советский «коллективизм вовсе не был советским, но существовал, пока были живы поколения, родившиеся еще в царской России. А уже новые советские поколения вопреки официальной пропаганде формировались с психологией эгоцентрического потребительства, и когда с 1960-1970-х годов они стали преобладать, СССР был уже обречен, поскольку не мог обеспечить запросы этого нового типа людей, который стал господствующим».
Казалось бы, что перестройку и расформирование СССР логичнее всего описывать как критику тоталитарно-идеологической системы, желание реформировать эту систему. Разумеется, что параллельно с этим происходила критика и экономического аспекта системы, но она не была главной. Если вспомнить тематику перестроечной и постперестроечной критики, то она была сосредоточена на восстановлении либерально-демократического представления о человеке. В противоположной большевистской версии революции утверждалась позитивность её либерально-буржуазного варианта. У этого варианта революции было своё идеальное содержание, которое является модерновым, но докоммунистическим. То есть можно говорить, что критика советской системы утверждала возврат к домарксистскому варианту просвещенческой программы. Это было идеальным содержанием этого движения. Параллельно с этим шла критика и экономического аспекта советской системы, но это не было главным.