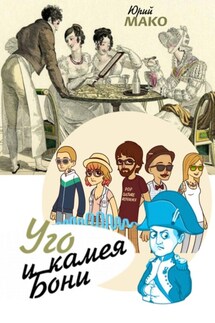Кто написал смерть? - страница 23
Она не разорвала записку. Сложила и положила в сумку. Это не было предательством. Это был механизм самосохранения, сработавший в другом человеке. Она знала: Вероника не враг. Но и не союзник. Больше нет.
Элина взяла остатки своих бумаг, забрала личные вещи и покинула здание. Без церемоний. Без прощаний. Даже не потому, что не хотела. Просто – прощаться было не с кем. Университет, в который она когда-то пришла как молодая писательница, несущая язык как способ спасения, теперь стал местом, где язык обернулся доказательством вины.
На следующий день она проснулась в доме, который больше не был домом. Он стал убежищем, но не от мира – от себя. Её рукопись лежала на полу, где она оставила её накануне. Чернила слегка расплылись – окно было приоткрыто, утренний дождь проник в щель, оставив отпечаток капли на странице. В другом контексте это могло быть поэтично. Сейчас – это было предупреждением.
Она знала: он следит. Не буквально. Не физически. Но – через структуру. Через литературу. Через реальность, которую он умеет оборачивать в слово. Али не говорил напрямую. Он писал.
На почте – новое письмо. От него. Без вложений. Только одна строчка.
«Ты боишься, что я узнаю тебя. Но ты боишься ещё больше – что я скажу то, что ты не можешь сама себе сказать.»
Это было хуже обвинения. Это было вторжением в те сферы, где молчание – последняя граница защиты.
Элина решила покинуть город на два дня. Не чтобы спрятаться. Чтобы дышать. Она уехала на север, в небольшой посёлок, где раньше часто останавливалась с мужем – до трагедии. Там, где всё было до. Место, где воздух пах морем, но без громкости. Пах тишиной, солью, травой, ветром, который не знает слов.
В деревянном доме у склона, подальше от дороги, она сняла комнату. Без Wi-Fi. Без сигнала. Без имён.
И снова взяла в руки ручку. На этот раз – не чтобы писать от себя. А чтобы впервые за всё время написать ему, не как студенту, не как сопернику, не как угрозе. А как тому, кто держит в себе чей-то другой голос.
«Ты не знаешь, кто ты, потому что не знаешь, откуда твое слово. Но я знаю. Я чувствую. Твоя точность – не твоя. Она унаследована. Ты не убийца. Ты – чья-то память. И если ты продолжаешь писать меня – возможно, я начну писать твоего отца.»
Это была угроза. И акт сострадания. Одновременно.
В ночь на воскресенье ей приснился старый разговор, когда она впервые вслух произнесла: «Я виновата.» Но это был не ее голос. А голос мальчика.
– Ты думаешь, я пишу тебя?
– Да.
– Нет. Я просто оставляю тебе пустые страницы, чтобы ты не умерла.
– Почему?
– Потому что моя мать молчала. И я заполнил это тишиной. Тебе ещё можно писать.
Утром она проснулась с новым пониманием. Всё это не борьба за правду. Не про разоблачение. Это передача языка. Кто-то когда-то замолчал. Теперь кто-то другой – должен говорить. Даже если ценой становится личность, карьера, безопасность.
Она поехала обратно в город. Не потому, что стало легче. А потому, что нужно было завершить вторую часть рукописи. Ту, в которой её вина должна быть названа. И только тогда – она сможет задать Али последний вопрос.
"Ты точно хочешь знать, кто я была до того, как перестала писать? Тогда слушай."
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ – Голос, который был раньше
Слово "вина" не значило для нее ничего, пока оно не перестало быть абстракцией. До трагедии она оперировала этим понятием как лектор: «моральная категория», «этическая конструкция», «литературный катализатор». Но после – оно стало чем-то другим. Не символом. Не чувством. А телом, которое жило внутри неё, дышало отдельно, двигалось сквозь сны, просыпалось раньше неё и смотрело на нее из зеркала.