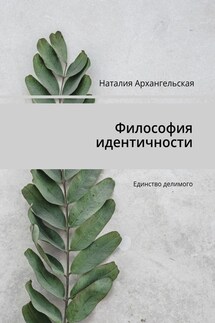Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов - страница 65
Андрей Пелипенко:
Из чего все же следует, что я отрицаю будущее?
Вадим Межуев:
Из ваших слов, что Должное исчезло или исчезает и что ментальность есть константное качество. Во всяком случае, я не обнаружил будущего в вашем толковании «Русской системы», в которой все движется в каком-то одном, раз и навсегда заданном круге. Если говорить о политической истории России, возможно, вы и правы, хотя и в данном отношении будущее не предначертано прошлым и настоящим. Но как сюда подверстать ее интеллектуальную и культурную историю? И что вообще считать историей культуры, в том числе русской культуры?
Вот здесь мы, видимо, и расходимся. Вы пытаетесь рассуждать как ученый – антрополог, социолог, историк, культуролог, не знаю, как еще кто. Я же рассуждаю как философ. Для ученого культура – это то, что уже сложилось в истории, существует в виде обособленных культурных миров или отдельных эпох, каждую из которых остается лишь описать. А для философа культура – происходящий на его глазах процесс творческого преобразования, изменения, переосмысления сущего, который никогда не обретает законченную форму. Ученый видит в культуре состояние, философ – процесс, не имеющий конца. Для ученого история культуры – это история вещей или идей (техники, науки, литературы, искусства), для философа – история самих людей, которая не может прерваться, остановиться ни в одной своей точке.
Хотя мы и считаем себя людьми русской культуры, но то, кем мы являемся сегодня, – уже не совсем то, кем были люди Золотого и даже Серебряного века в ее истории. Что-то утеряно, но что-то стало более понятным и очевидным. Поэтому каждое новое поколение и способно критически взглянуть на свое прошлое, выйти за его пределы, найти ему определенную альтернативу. Людей, преодолевающих инерцию уже существующего, я и называю людьми культуры.
Открытие феномена культуры состояло вовсе не в открытии того, что человек мыслит, обладает речью, верит в богов, способен создавать произведения искусства или полезные для себя вещи. Об этом знали задолго до того, как впервые заговорили о культуре. Культуру открыли гуманисты эпохи Возрождения, осознав, что человек – результат не просто природного или божественного, но и собственного творения. Иными словами, человек – не животное и не ангел, но существо, наделенное свободой воли, позволяющей ему по собственному выбору либо опуститься до уровня животного, оскотиниться, либо вознестись на ангельскую высоту, стать святым.
Культура и есть сфера человеческой свободы, отличная от сферы как природной необходимости, так и божественного предопределения. Она есть «царство человека», где все существует в силу человеческой свободы, а человек является единственным субъектом. Культура и очерчивает собой существование человека в качестве такого субъекта или свободного существа. Мера свободы, доступная человеку, и есть мера его культуры. Все, что существует в силу природной необходимости или божественного предписания, культурой не является.
Евгений Ясин:
Но божественное, я прошу прощения, это тоже часть культуры…
Вадим Межуев:
Это только для вас так – для атеистов, а для верующих культура – такое же создание Бога, как и все остальное. Атеисты считают, что религия – часть культуры, а Бог – чисто культурный символ. Для верующих Бог – самая что ни на есть реальность, а культура целиком подвластна Богу.