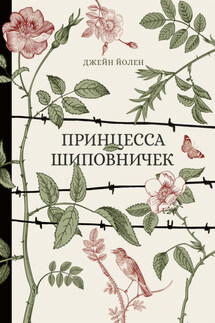Культурология. Дайджест №2 / 2018 - страница 7
По мнению Б.М. Бим-Бада, детям предстоит также научиться соизмерять каждый свой шаг с понятием права. «Возможность самозащиты и защищенность личности суть основополагающее содержание любой общественной жизни. Только та школа хороша, в которой меньше ценится учеба, чем учащийся; которая предоставляет самоуправлению ясные и определенные полномочия; дает членам коллектива конкретные права и гарантирует неоспоримость пользования этими правами; сохраняет за личностью ту долю самобытности, которая и делает ее личностью» (3, с. 8).
Опасность человечеству, подчеркивает Б.М. Бим-Бад, исходит прежде всего от неправильного воспитания, укореняющего самодовольное и не подозревающее о себе скудоумие, жадность, безответственную недальновидность. «Обществу приходится опасаться нового деспотизма. Ибо оно столкнулось с ростом невежества, научившегося добиваться власти… Демократия всегда может выродиться в деспотизм, если ее не поддерживает особая культура, сохраняемая и передаваемая от поколения к поколению с помощью школы, воспитания… В исторической перспективе воспитание должно предшествовать экономике и политике и опережать их в каждую данную единицу времени. Воспитание обладает властью над властью: влияет на общественное мнение и стимулирует производство идей» (3, с. 9).
В фокусе этих двух понятий начинает видеться в новом свете сам феномен образования как такового. В частности, феномен школы, традиционно обозначаемый в гуманитарной литературе как феномен социального института, раскрывается в этом случае как институт коммуникации и социализации, или же, точнее, как двуединый процесс социализации через коммуникацию, средствами коммуникации и, соответственно, коммуникации через социализацию, средствами социализации. Возможность такого взаимообразного обращения этих двух процессов становится очевидной, если мы примем во внимание социокультурную природу процесса коммуникации и коммуникативную природу социализации. Последнее обстоятельство фиксируется, например, в самом широком определении социализации как взаимодействия, а, стало быть, и коммуникации как стержня взаимодействия развивающегося человека с миром, которое дает А.В. Мудрик: «Процесс развития человека во взаимодействии с окружающим его миром получил название социализации» (15, с. 2). В свою очередь, социальный смысл коммуникации как социализирующего процесса видится в том, что этот процесс всегда осуществляется между разными поколениями, взрослыми и детьми, строится как своеобразный диалог не только между современниками, но и с представителями прошлых веков; и предметом этого диалога является общая всем жившим и живущим на Земле людям человеческая культура в самом широком ее значении. Представление коммуникации и социализации двуединым процессом позволяет использовать его в качестве основания для построения модели школы как коммуникативно-социализирующей организации, или же как социального института, базирующегося на принципах массовой коммуникации (здесь понятие «массовости» служит синонимом понятия «социальности»).
Новая модель школы, формирующаяся в рамках социокультурного подхода, выдвигающего на первый план понятия коммуникации и социализации в их неразрывном единстве, предполагает, кроме наличия в своем составе этих двух компонент, еще одну – инновационную компоненту обучения, учитывающую общий характер и все ускоряющийся темп происходящих в современном обществе социокультурных, технологических и организационных изменений. Характеризуя инновационный тип обучения, А.В. Сиволапов, в частности, пишет: это «открытость будущему, которое беспрецедентно и подлежит активному конструированию; способность к предвосхищению на основе постоянной переоценки ценностей, к совместным действиям в новых небывалых ситуациях. Только этот тип обучения становится подлинно демократическим, ибо предполагает общность и равенство поколений перед лицом будущего. Изменение относительной роли инноваций и традиций в структуре обучения, обращенного к неизведанному будущему, предполагает и изменение типа отношений между поколениями, между учителем и учеником. Эти отношения утрачивают характер принуждения. Они не могут быть ничем иным, как отношениями сотрудничества, взаиморегуляции, взаимопомощи равных перед неведомым предстоящим. В процессе учения преобладающим становится творческое начало, индивидуально-личностное своеобразие подхода к проблеме, к способу ее решения. Главная ценность отношений – сотворчество учителя и учеников» (21, с. 91).