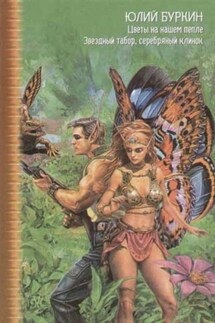Культурология. Дайджест №4 / 2016 - страница 21
Однако мнение писателя не предохранило его произведения от поиска в них намеков, иносказаний, особого подтекста и т.п. Критики, а их у Кафки было много, видели в его искусстве и «тотальный капитализм», и «страшную карикатуру на человека», и «колорит абсурдности», и «больной талант», и «свидетельство страшной трагедии человека, загубленного буржуазным обществом». Первая публикация о Кафке у нас в стране появилась лишь в 1959 г. И подобное к нему отношение вполне объяснимо. Лишь к началу 80‐х годов в анализе его творчества ощущались уже ноты сочувствия и понимания, больше упреков в пессимизме и в апологии одиночества, чем в реакционности. Примечательно, пишет В. Полищук, что упрекали в том, от чего сами страдали и не любили в себе. К тому времени трудно было не заметить сходства и какого‐то внутреннего родства мира Кафки с привычным миром «социалистического лагеря». Бесправие и подавление личности, абсолютизация госаппарата, непостижимая в своей обреченности жизнь миллионов одиночек – все, что Б. Брехт увидел у Кафки еще в 30‐е годы, стало действительностью. Но если бы Кафка, как понял его Брехт, просто предвидел все это, если бы он просто описал возможные опасности… А у него ведь предвидения – это приговор, поскольку их исполнение – неизбежно.
Как он мог так угадать? – спрашивает автор статьи. Угадать не концлагеря или бездушность бюрократической системы, а именно то, что все это станет реальностью вопреки бесчисленным предупреждениям об опасности, вопреки наивной вере в справедливость и разумность бытия. Однако изображая насилие и принуждение, он не показывал механизм или источник насилия и принуждения. Анонимность принуждения и создает атмосферу безысходности, которая неизменно присутствует в произведениях Кафки.
Метод, с помощью которого он «угадывал», является древним как мир. Его можно было бы назвать самонаблюдением, а точнее: своим собственным взглядом на себя как на человека. Кафка не мог играть иную роль, кроме как просто человека. Эта странная жизнь, эта обреченность на одиночество была для него естественной, поскольку иного ничего не было, иначе он не мог. Пробовал, но не получалось, везде были пугающие препятствия, преодоление которых казалось еще более пугающим.
Кафка описывал мир людей, которые являются не чем иным, как результатами обстоятельств, ими исчерпывается вся жизнь его героев. С ними все время происходит что‐то неожиданное, они пытаются как‐то осознать случившееся, что‐то учесть и чего‐то избежать, но все равно остаются жертвами. Да и может ли быть иначе с людьми, признавшими себя продуктом господства обстоятельств над человеком, а его герои – символы добровольного признания такого господства. Вместе с тем Кафка знал, что человек представляет собой нечто большее, чем обстоятельства и отношения, что не они его порождают, а он сам их создает. Нет в мире силы, которая бы заставила человека изменить себе самому. Но человек всегда находит в себе силы, чтобы сделать вид, будто его принуждают к такой измене.
Человек не знает самого себя. Но не знать себя можно по-разному. Можно знать о своем незнании, а можно и не знать о нем, довольствоваться видимостью знаний. Драма Кафки была в том, что он слишком хорошо знал о своем незнании. Оно постоянно напоминало о себе тем, что он, как отмечали его биографы и критики, всюду был чужим: еврей – среди христиан, индифферентный еврей – среди самих евреев, говорящий по-немецки – среди чехов, по-немецки говорящий еврей – среди немцев, богемец – среди австрийцев, служащий – среди рабочих и т.п. Но и в кругу своих родственников он тоже был чужим. Это ведь какой‐то особый талант – быть неблизким почти со всеми. У действительного таланта своеобразное отношение к ложности, вымышленности окружения. Он чувствует, что будь он своим в таком окружении, ему бы пришлось либо фальшивить, либо слишком много сил тратить на то, чтобы оставаться самим собой. Кафка не ощущал в себе силы для того, чтобы как Гёте или Бальзак, в любом окружении оставаться самим собой. Он знал и чувствовал себя лишь наедине с собой. Одиночество он любил, считал его своей единственной целью и великим искушением, но и страшился его, поскольку в одиночестве мир являлся ему совсем в ином свете. Изображение этого мира, являвшегося ему фантастической внутренней жизнью, было его борьбой за самосохранение, и оно же делало несущественным все остальное, что не относилось к литературе. Ей он принес в жертву все: общение с родными, здоровье, женитьбу, так необходимые ему простые житейские радости и отношения с людьми.