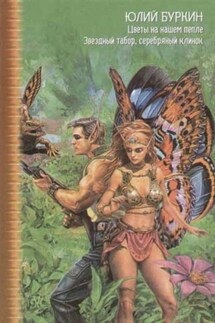Культурология. Дайджест №4 / 2016 - страница 22
Натура у Кафки была хрупкая, деликатная, чувствительная до болезненности. Подобной натурой можно оправдать в себе любую слабость. А он однажды, в окружении злобной толпы националистов, упрямо отказался встать, когда оркестр грянул «Страж на Рейне». Самому себе он казался худым, слабым и жалким, а со стороны – просто беззащитным. Милена Ясенская – женщина, которую любил Кафка, писала о нем, что обыкновенные вещи кажутся ему абсолютно мистическими, самыми удивительными загадками, что он – будто «голый среди одетых». Ей принадлежит удивительно точная характеристика писателя и того окружения, в котором он находился, которое, впрочем, типично и для культуры в целом: «Мы все будто приспособлены к жизни, но это лишь потому, что нам однажды удалось найти спасение во лжи, слепоте, воодушевлении, в оптимизме, в непоколебимости убеждений, пессимизме – в чем угодно. А он никогда не искал спасительного убежища ни в чем. Он абсолютно не способен солгать…» (цит. по: с. 276).
У Кафки спасение было во имя творчества, во имя рождения все новых образов, переполнявших его. М. Брод, близко знавший его, сетовал, что он и мыслил, и говорил образами, что с ним почти невозможно было беседовать о чем-нибудь абстрактном. Зато жизнь Кафки становилась как бы все более абстрактной, он не досаждал родным и близким своим вниманием, стараясь быть почти незаметным. После 1917 г. он вообще вел отшельническую жизнь.
Умер он почти в том же возрасте, что и С. Кьеркегор, чье влияние испытал на себе в последние годы жизни, и о котором писал: «Он как друг помог мне утвердиться в себе» (цит. по: с. 276). Перед смертью Кафка просил сжечь свои неопубликованные рукописи. Это значит, считает В. Полищук, что Кафка щадил своих возможных читателей, как щадит своих учеников мудрый и много страдавший учитель, призывая их не следовать ему в жизни.
Через четверть века после смерти Кафку «открыли» на Западе, и к нему пришла слава провидца, поскольку в его символах обнаружило себя реальное бытие. А в странах, назвавших себя социалистическими, его творчество еще долго находилось под запретом. Ведь со временем становилось все более очевидным, что Кафка – не творец символов, что его искусство – это зарисовка с натуры. Отношение к нему может быть выражено его же словами, обращенными к Милене Ясенской: «…Я люблю даже не тебя, а мое, через тебя мне подаренное, бытие» (цит. по: с. 276).
Э. Ж.
«Потерянное поколение» и Гертруда Стайн
И.Л. Галинская
Понятие, возникшее между двумя мировыми войнами, – это «потерянное поколение». Термин стал лейтмотивом творчества целого ряда писателей, как после войны, так и позднее. «Потерянное поколение», т.е. молодые люди, «призванные на фронт в возрасте 18 лет, часто еще не окончившие школу, рано начавшие убивать» (4). Вернувшись домой, они зачастую не могли адаптироваться к мирной жизни, спивались, сходили с ума и проч. Э.М. Ремарк в романе «Возвращение» (1931) показал именно таких бывших солдат. А в его же романе «Три товарища» (1938) также описана судьба «потерянного поколения».
Считается, что термин «потерянное поколение» был введен в оборот американской поэтессой, прозаиком и теоретиком литературы Гертрудой Стайн (1874–1946), употребившей его в разговоре с Эрнестом Хемингуэем (1899–1961). В 1926 г. писатель поставил этот термин в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце». Рассуждения о вернувшихся с войны фронтовиках, о людях того и более позднего времени находим в творчестве многих литераторов, причем именно их Гертруда Стайн и назвала «потерянным поколением».