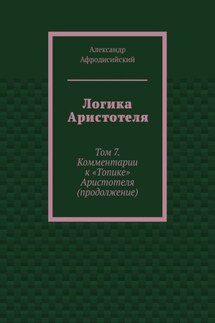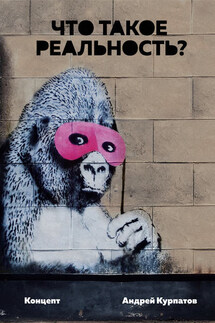Логика Аристотеля. Том 7. Комментарии к «Топике» Аристотеля (продолжение) - страница 31
Но ни то, ни другое невозможно, так же как невозможно, чтобы знание само было знающим или движение – движущимся. Ведь не движение движется, а движимое; не знание есть знаемое или знающее, а знание принадлежит знающему.
Точно так же превышение – не превышение превышения, а превышение превышающего; подобно и сила – не сила силы.
Все такие вещи принадлежат другому и находятся в другом, и ни одна из них не существует сама по себе. И ни одна из них, будучи присуща чему-то, не может быть приписана себе самой.
Например, знание делает обладающего им знающим, но само знание не является знающим (знание не знает).
Подобно и движение сообщает обладающему им свойство двигаться, но само не движется.
Так и превышение сообщает обладающему им свойство превышать, но само не превышает и не является превышающим.
То же рассуждение применимо и к силе.
Более того, если бы эти понятия приписывали себе то, что они приписывают тому, в чем находятся, это привело бы к бесконечному regressus, как было показано в «Физике».
Ведь если сила силы есть сила, и у этой силы в свою очередь есть сила, и так до бесконечности – то же самое и с превышением: если превышение превышения есть превышение, то у этого превышения есть свое превышение, и так до бесконечности.
стр. 126b34 Иногда ошибаются, помещая страдание в род того, что страдает.
Он говорит, что некоторые ошибаются, принимая страдание чего-то за его вид и относя к его роду то, что страдает, как если бы кто-то назвал тело родом цвета (ведь цвет – страдание тела). Поэтому тело не есть род цвета.
По той же причине душа не есть род знания, убеждения, желания, печали или гнева.
Такое делают те, кто определяет бессмертие как вечную жизнь, относя жизнь к роду бессмертия. Но бессмертие – это страдание или сопутствующее свойство жизни.
То, что бессмертие есть страдание или сопутствующее свойство жизни, он показывает, предполагая, что смертное становится бессмертным. Ведь смертное становится бессмертным не путем принятия другой жизни, но как бы через некое сопутствующее свойство или страдание: та же самая жизнь, претерпев изменение, становится бессмертием.
Если жизнь, претерпев страдание, становится бессмертием, то бессмертие есть страдание жизни.
Следовательно, если то, что страдает, не есть род страдания (ибо страдание – это сопутствующее и случайное свойство страдающего, а не его вид), то и жизнь не есть род бессмертия.
Так же тело не есть род сладости, а душа – род удовольствия или печали.
Даже если кто-то не согласится, что бессмертие есть страдание жизни, приведенный аргумент остается верным, а пример может быть объяснен иначе.
Если же бессмертие не есть страдание жизни, то оно будет ее видовым отличием. Ведь видами разумного животного являются человек и бог, а их отличие – в смертности и бессмертии.
Но если бессмертие – видовое отличие жизни, то и в этом случае жизнь не есть ее род (ибо уже было сказано, что ошибаются и те, кто помещает видовое отличие в вид).
Признаком того, что это страдание, а не вид, служит то, что род, будучи помещенным в основу, остается тем же самым по числу, но, приняв некое страдание или изменившись через страдание, становится таковым.
Но это невозможно для родов: если предположить, что человек превращается в животное, то то же самое животное, которое было в человеке, не может стать животным, изменившись через страдание.