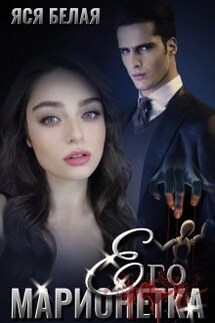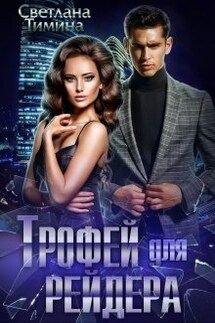Моя больная любовь - страница 7
Монстр складывает руки на груди – кожаная куртка на плечах так натягивается, что вот-вот треснет. Ого! Вот это мускулы?
Чёрт! О чём я опять?
Глаза, мускулы, ширина плеч… Я точно умом двинулась, если пялюсь на него и ищу достоинства в лице и фигуре?
– Что ты имеешь в виду, Сотникова? Учти, блефовать не выйдет. И спастись враньём – тоже.
– Боже упаси, – кое-как поднимаю несколько пальцев вверх, пытаясь заверить в своей честности, – врать самому Монстру?! Блефовать перед ним? Ни в коем случае – правду, правду и ничего, кроме правды…
– Ёрничаешь? – он выгибает бровь и ухмыляется. Ухмылка, впрочем, ему идёт – нахальная такая, самоуверенная. И губы у него красивые, чёткие, в меру полные, не пельменями…
– Пытаюсь, – хмыкаю в ответ. – В общем, вы, доктор, ошиблись – у меня не истерика. Мне действительно было смешно. Горько и смешно одновременно. И вы, Монстр, тоже ошиблись, что взяли меня. Отец не придёт за мной. Он только вздохнёт с облегчением. Я для него обуза. У него теперь новая жена и здоровая красивая дочь… А я… так…
– Док, выйди, – рявкает Монстр, а у самого аж желваки ходят, вон, как скулы обозначились – порезаться можно, – у нас тут разговор интересный намечается и приватный, притом …
Тот, кого он назвал Доком, кивает и, ничуть не обидевшись, идёт к двери, у выхода останавливается и бросает через спину:
– Тогда я поеду. Всё, что надо, написал. Там на тумбочке.
– Хорошо, – явно торопит его Монстр, – иди уже. И дверь за собой закрой.
Сам же хозяин этой берлоги усаживается в своё медвежье кресло, разваливается и уставляется на меня.
– Что ты хочешь этим сказать, Сотникова?
Приподнимаюсь на подушках, хотя руки дрожат и не слушаются меня. Но после нескольких попыток мне всё-таки удаётся принять относительно вертикальное положение. Это нужно, чтобы лучше видеть его.
Шёлк противно холодит спину – у меня задирается пижамный топ. Шёлковое бельё выбирают те, кто начал жить хорошо не так-то давно. Ради понтов. Спать на нём на самом деле – удовольствие сомнительное.
Устроившись, я отвечаю Монстру:
– Лишь то, что сказала. У меня мачеха, у неё – дочь. Как в дурной сказке. А меня саму похитило чудовище и скоро сожрёт. Только вот… никто обо мне плакать не станет. Зря чудовище будет хрустеть моими костями. Я лишь обуза. Родной отец хочет сбагрить меня подальше: с глаз долой – из сердца вон. Слышали?
Он усмехается, но почти по-доброму:
– А ты забавная.
– Да ну…
На самом деле я несу всю эту несусветную ахинею, потому что мне страшно. До чёртиков. До трясучки. До очередного надвигающегося обморока. Шутки и смех – лишь бравада. Слабое прикрытие. Думаю, он знает, чует, как хищник. А у людей в крови – бояться хищников, как бы мы не храбрились и не говорили, что готовы к смерти. Вот и я дрожу вся, трясусь, но говорю-говорю, придумываю на ходу, лишь бы заболтать собственный страх…
– Если бы похитили Вику, падчерицу отца, или Эвелину, мою мачеху, вот тогда бы он всполошился. А ради меня – пфф… Не будет вам удовлетворения. Он ещё и спасибо скажет, что убили и прикопали. Ему же меньше хлопот с похоронами.
– То есть, – хмыкает мой похититель, – Сотников – ещё большая мразь, чем я думал?
– Не знаю, – честно отвечаю и пожимаю плечами, – но я сама слышала, как накануне моего похищения он сказал Эвелине, чтобы та занялась оформлением меня в один гадкий реабилитационный центр. Там люди очень быстро переписывают на родню всё своё имущество и… отправляются в лучший мир. И всё шито-крыто, не придерёшься.