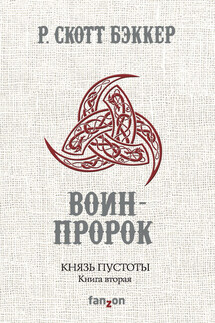Моя жизнь. Лирические мемуары - страница 19
Ломтики, жадно съедаемые всухомятку на большой перемене…
Все десять лет (тогда ровно столько требовалось отбыть в полной средней школе, дабы получить заветный аттестат), я учился охотно, без понуждений и менторских понуканий.
На первый взгляд, глагол «отбыть» здесь вроде бы неуместен. Но надо признать, что часть моих школьных сверстников тех лет сию образовательную повинность действительно отбывала. Полученный (после посильного десятилетнего отбывания) аттестат, конечно же, был всего лишь формальной бумагой, удостоверяющей факт окончания полной средней школы. И вряд ли выданный документ, с водяными знаками и гербовой печатью, определял уровень базовых знаний «аттестованного». Выходной аттестат, с красующимися в нём попредметными отметками: «посредственно», и никогда: «хорошо», – красноречиво свидетельствовал, что «средней образованности» предъявитель подобного сертификата, мягко говоря – не достиг. Но бумага давала возможность обрести кое-какую профессию, и избежать (при желании) участи пополнения собой армии безлико-никчёмных, низовых исполнителей.
Я же учился всерьёз потому, что было интересно. Сладость познания – особая сладость. И гормон радости дарует мозг не тогда, когда ты узнаёшь – что есть число, буква, предмет, или явление, а лишь когда приходит разумение – почему это так, а не иначе.
Трудное, и не всегда скорое овладение пониманием: «почему?» – приносит и интеллектуальный кайф, и порождает уважение к самому себе. Но овладение пониманием – занятие не из лёгких, и требует недюжинного терпения. И плод познания бывает сладок, лишь когда ты его срываешь дозревшим, а не надкусываешь зелёным, заполученным тобой через натаскивание либо механическое заучивание.
Поверхностная осведомлённость знанием быть не может. Плохо обученный индивид, даже берясь за простую задачу, находит правильное решение только после того, как перепробует все неверные варианты. Метод «авосьного тыка», при решении собственных житейских проблем, люб, прежде всего, дремучей бездари, которой в забаву попадать пальцем в небо.
Но к этому же методу прибегают и никчёмности, и любители дармовщинок, так и не освоившие базу, а, посему, вынужденные уповать лишь на счастливый жребий, который непременно (по их же разумению) – должен однажды выпасть именно им.
Нынче вот спорят, надобны ли младшему школьнику – чистописание и каллиграфия, а старшему – астрономия, логика и психология. Ломают копья вокруг дилеммы, где нужно ставить подвижное ударение, и к какому роду отнести новоиспечённый неологизм.
Мышиная возня, игры «мужей», облачённых в академические мантии. Каждый вновь пришедший министр образования (и подсюсюкивающая ему рать приспешников), почему-то считают, что именно они призваны оздоровить якобы хворающий школьный организм. Но их указующее крючкотворство оставляет лишь грубые шрамы на совершенном теле базового образования.
Разве суть знания в частностях?
Разве интерактивные доски, столы, и повальная компьютеризация избавляют ученика от необходимости мыслить, и от умения делать разумные умозаключения?
И разве естественные законы школа вправе толковать двояко только потому, что кое-кто из плеяды «учёных мужей», ревизующих учебники, позволил себе усомниться… в априорной сути природных явлений?
Фундаментальная база истинного знания, отшлифованная столетьями, в своей изначальной, первозданной основе должна оставаться незыблемой. Надо только уметь подать базу так, чтобы классическая мелодия знания узнавалась бы в дирижёрской подаче – по её первым стержневым нотам.