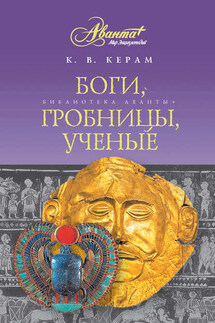Моя жизнь. Лирические мемуары - страница 32
Но не грели, и не тешили. Дело было вовсе не в них, в этих регалиях и титулах, которые, кстати, к моему благосостоянию ничего не добавляли, – дело заключалось в грызущем меня изнутри вопросе: что я мог (и что обязан был мочь), получив в управление полноценный стационар, но имея за спиной к тому времени только год самостоятельной практики.
К сему добавлю, что руководители всех имеющихся служб, в свою очередь именовались и районными хирургами, и районными терапевтами, и прочими районными «бонзами», включая даже «узких» специалистов. Так что обязанности районного акушёра и гинеколога – само собой возлагались и на меня.
Вспоминаются коллективные выезды вышеназванных специалистов в участковые больницы, где проводились профилактические приёмы местного населения. Что могли такие бригады?
Могли, и немало. Выявлялись очевидные болезни, на которые сельские лекаря почему-то не обращали должного внимания.
Нужны ли были такие осмотры, и не были ли они банальной профанацией? Даже с позиций современного здравоохранения, считаю, что да – нужны были и тогда, нужны и поныне. Выявлялись заболевания, о которых их носитель и не подозревал. Иногда на ранних стадиях, иногда, к сожалению, в довольно запущенных формах. Это касалось и внутренних болезней, и хирургической патологии, и, что более значимей – предраковых, либо подозреваемых на таковые – нозологий.
Конечно, эти районные «титулы» ничего не добавляли к символической зарплате, но сами выезды, помнится, всегда завершались хорошим сельским обедом, сдобренным достаточным количеством медицинского спирта. Председатели же (либо директора) местных хозяйств были весьма щедры, и не скупились на поставки к столу обедающих медиков даров моря, свежего мяса, фруктовых и огородных яств.
Надо признать, что участковые больницы в те времена смотрелись убого: десять-двадцать коек, размещённых в приспособленном помещении, на которых «поправляли» здоровье несколько стариков и старушек.
Один врач (он же главный), – специалист по пользованию хронических внутренних болезней, был, как говорится, и жнец, и на дуде игрец. Овладеть «универсализмом» он не мог, да этого от него и не требовалось. И, посему, врачевал сельский лекарь только следствие, и никогда – причину, исповедуя паллиатив и заповедь: «не навреди!». Лечение же острых заболеваний на участковых койках и вовсе не практиковалось, поскольку не имело смысла, ввиду невозможности полноценного обследования, и, тем паче, оказания правильной помощи.
Но ещё более убого выглядел фельдшерско-акушерский пункт, который (как мне казалось) и именовался пунктом только потому, что медик, возглавляющий таковой, призван был оказывать либо диспетчерскую, либо доврачебную помощь. Фельдшер подобного пункта вёл журнал приёма «страждущих». Прочие медицинские формы не были предусмотрены.
Как-то на выезде, заглянув в один из таких журналов, я обнаружил следующее: фельдшер в своей доврачебной практике пользовался двумя, весьма странными «диагнозами».
Если «страждущий» предъявлял жалобы, касающиеся каких-либо неполадок в здоровье выше пояса, «диагноз» в журнале приёма читался весьма лаконично: «общий верхний синдром».
Ежели жалобы касались недомогания в частях тела ниже пояса, диагноз читался как: «общий нижний синдром».
Записи вызывали улыбку, но умиляли находчивостью…
Были и другие шедевры эпистолярно-доврачебного фельдшерского жанра. В примерах, которые я привёл, нет (и не было тогда) намеренья подчеркнуть безграмотность сельского медработника.