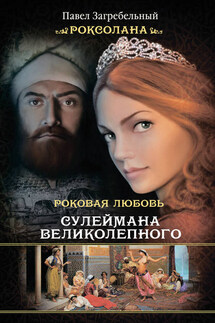Моя жизнь. Лирические мемуары - страница 39
Есенин писал: «…и хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нём». Мне придумывать ничего не надо: Босфор я созерцал и ранним утром, и в полдень, и в ночное время. Пролив для обзора не приедался – у пролива были очевидные берега, на которых всякий раз глаз ловил, прежде не замечаемые, «истанбульские» достопримечательности.
Дарданеллы, Ла-Манш, и Па-де-Кале видимых берегов не имели, и смотрелись обычной морской водой, иногда спокойной, но чаще терзаемой штормовыми ветрами. Гибралтарский – берега имел, но далёкие, и разглядеть их можно было либо в локатор, либо в хороший бинокль…
В водах океанов и морей, вдали от суши, бесконечный бег судна днём казался скучным: белый бурун за кормой, монотонный рокот машины, вышедшей на ходовой режим, – режим, который из суток в сутки принуждал гребной вал делать положенное количество оборотов. И этот счёт оборотов позволял судну бежать неделями с максимальной скоростью.
Иногда сухогруз сопровождали дельфины, высоко выпрыгивая перед носом корабля, будто играя с ним в обгонялки, иногда, на параллельном курсе, всплывала огромная морская черепаха.
Ночью, при чистом небе и яркой луне, хорошо смотрелись звёзды – крупные, и как-то по-особому мерцающие.
Иногда в ночи судно летело по штилевой ряби, обрамлённое по бортам флюоресцирующим, светящимся планктоном.
И было много чего ещё, что поначалу выхватывалось свежим глазом из водного однообразия как нечто неожиданное и занятное, а затем (и довольно скоро) воспринималось как обыденность…
Глава двадцать девятая
В порты Италии моё судно захаживало десятки раз. Пожалуй, не оставалось ни одного мало-мальски значимого пирса на Адриатическом, Тирренском, и Ионическом морях, к которому хотя бы раз не причаливал мой сухогруз. Почему? Так уж развита была торговля с этой капстраной? Или всё дело в коротком плече: семь суток туда, семь обратно. Но чем торговали, что возили мы, и что везли (если везли!) – в Союз? Туда – всё больше чёрные и цветные металлы, увы, не являющиеся конечными изделиями; везли обогащённые марганцевые и полиметаллические руды; но чаще – просто металлолом, в виде развороченных тракторов, крупных деталей машин, обломков станков, – словом, сырья с невысокой, как сказали бы теперь, добавленной стоимостью. Обратно – либо ничего (шли в балласте), либо штучный товар, с уже высокой добавленной стоимостью: фасованное оливковое масло, машины, электронику, предметы парфюмерии, быта и досуга.
Да, кстати: в те годы заканчивалось строительство автозавода в Тольятти, а базовой моделью будущих «жигулей» был (следует напомнить) – итальянский «фиат». А, посему, стоянки в портах – Генуя и Венеция затягивались порой до недели: груз состоял из множества ящиков, коробок, и прочих ёмкостей, куда упаковывались предметы оборудования, предназначенного для оснащения Волжского автогиганта. Такой «мелочёвкой» заполнялся один трюм из четырёх, суммарный вес груза был небольшим, и в судовые танки приходилось закачивать забортную воду.
К тому, что можно было извлечь команде из этих длительных стоянок, я ещё вернусь, описывая свои ощущения от посещения Рима, с его «вечностью» и античным флёром. Посещения спонтанного, не сопровождаемого заезженными россказнями гидов и экскурсоводов, посещения, в котором я смотрел на Рим глазами обывателя Страны Советов. Я вернусь и к ощущениям от прогулок по Венеции, по Дворцу дожей, и по прочим местам в Италии, которые и по сегодня не у всех на слуху, но по которым мне посчастливилось побродить. По местам, не слишком знатным, но до мозга костей – самобытно итальянским…