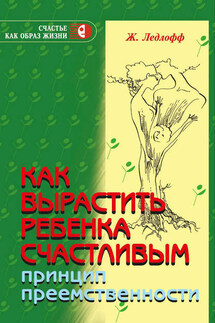Моя жизнь. Лирические мемуары - страница 40
Впрочем, и торговля с остальными странами Европы и Америки не выходила за рамки сырьевой, обратно же чаще всего либо бежали в балласте, либо везли слабообогащённые руды, типа глинозёма, – «земли», как презрительно называли заморские бокситы моряки. В страны Африки возили шихту (смесь углей) для электростанций, зерно, удобрения. Обратно – хлопок, иногда кору пробкового дерева, джут, рис, бобы. Другие суда наверняка ввозили и что-то иное, более ценное и добротное, но моё судно именовалось сухогрузом (насыпным и навальным), и ему, видимо, более подходило возить (чаще всего – туда) лишь перечисленные выше грузы.
Я, может быть, излишне подробно описываю перипетии сбыта и предложения «всего и вся» на глобальном уровне. Торговля, обмен товарами, участие в этом обмене в качестве перевозчика моего судна, казалось бы – какое дело мне, врачу, до подобных экономических коллизий? Но при виде кривых улыбок крановщиков, выгружающих железный хлам из трюмов судна – Страны Советов, даже у меня, человека далёкого от внешнеторговых проблем, внутри просыпалось чувство стыда.
Во-первых, как гражданину, мне было «обидно за державу»: или мы действительно не умеем (кроме, разве что оружия) делать высокотехнологичные вещи, или же, обладая несметными подземными богатствами и сравнительной простотой их извлечения, нам и впрямь удобнее оставаться сырьевым придатком развитых капиталистических стран.
И хотя с тех пор прошло сорок с лишним лет, но, судя по информации, которая сегодня подаётся относительно правдиво, – торговля (мирными товарами) с ведущими странами и странами третьего мира остаётся по-прежнему сырьевой.
А вступление России в ВТО тотчас подтвердило, что наши товары с низкой добавленной стоимостью, и даже товары высокого передела сырья, стоят дёшево, и не слишком конкурентны на большом рынке. Их нужно продавать слишком много, чтобы покрывать внутренние расходы. А при экономическом спаде, и при возникающем перепроизводстве всего и вся, сбыт сырья (либо полуфабрикатов) переходил в проблему: сырьё оседало на складах, его цена падала ниже себестоимости, и продажа полезных ископаемых не окупала даже затрат на их извлечение…
Такие вот невесёлые мысли приходили мне в голову тогда, приходят и сегодня, глядя на то, как медленно и нехотя страну отлучают от сырьевого соска.
Качать легче, чем думать и творить!.. А разучившись думать, не сделаешь вещь, отвечающую запросам двадцать первого века.
И страну, опирающуюся только на жидкое и твёрдое сырьё, ещё долго будут причислять к десятку «развивающихся», несмотря даже на её исключительную военную мощь…
Почему так? Почему, кроме оборонки, остальное мы делать не умеем, либо делаем на коленке, и только топором? Разве нам чего-то недостаёт? Есть же – необъятные земли, пресные воды, великолепные леса, металлы, нефть, газ! Вроде бы сеем, рубим, добываем, производим энергию, и даже обходим в чём-то тех, кто за бугром делает то же самое.
Но по фактуре и надёжности – как у них – не получается…
И нынче класс, которому и впрямь поднадоел пресловутый вал, всё чаще взывает к учёным мужам: образуйте, научите, наконец – заставьте! – но мы желаем делать продукт так и по таким лекалам, чтоб обуревала гордость за наше – свинченное, склеенное, собранное, склёпанное и сваренное – а продукт на большом рынке шёл бы нарасхват.
Но учёные мужи хихикают в кулачок: зачем учить делать продукт, якобы сулящий хорошие деньги, когда проще научить делать деньги… из воздуха.