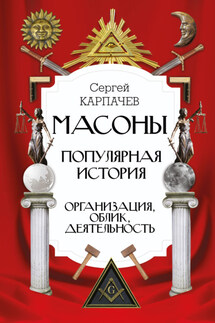Мусульмане в новой имперской истории - страница 35
Изучение мусульманских окраин России ΧΙΧ-ΧΧ вв. только по русским источникам дает крайне искаженную картину. Ущербность такого подхода хорошо видна на Северном Кавказе, русификация которого представляет относительно недавнее явление. До 1927 г. языком культуры, школы, власти и закона в Дагестане оставался литературный арабский (ал-фусха). Единственным новшеством было введение в делопроизводстве местных судов и сельских администраций григорианского календаря. Но и арабский язык, по дореволюционной российской статистике, знало не более 5 % населения[164]. Даже заседания шариатских судов проходили на одном из местных языков и уже после вынесения приговора записывались на арабском. Еще в 60-х годах XX в., путешествуя по отдаленным горным районам, таким как Цунтинский, этнографы и искусствоведы, не владевшие местным наречием, вынуждены были возить с собой переводчика[165]. Такую иерархию письменных и устных языков нельзя забывать при анализе архивных документов того времени.
Все это показывает сложность архивной работы в регионе. Как востоковед, я хорошо понимаю своих коллег, призывающих к изучению долго игнорировавшихся источников на восточных языках[166]. Это важно, но не решает проблемы, как показывает пример с шариатскими судами в Дагестане. Во многом вопрос упирается в критерии исламскости, по-разному понимаемые востоковедами, этнологами и политологами. Все зависит от того, чему отдать предпочтение – устным источникам, говорящим о живой мусульманской традиции, или нормативным текстам на восточных языках? А если верно последнее, каким именно – Корану и Сунне (идущей от пророка традиции), освященным многовековой традицией, или творчеству современных исламских интеллектуалов? Ответ на эти вопросы в значительной степени зависит от профессиональной подготовки. Конечно, нельзя объять необъятного и заниматься востоковедением и этнологией одновременно, но, как мне кажется, выход из наметившегося источниковедческого кризиса кроется именно в сравнительном изучении различных архивов и, более того, разных типов источников, соперничающих друг с другом, но и дополняющих друг друга. Попробую пояснить свою мысль на примерах из собственного опыта работы в архивах.
От эпохи российского завоевания Северного Кавказа осталось немало анонимных описаний обстановки в регионе, составленных офицерами Кавказской армии. Внешне они выглядят весьма беспристрастно. Возможно, по этой причине многие из них легли в основу так ценившего анонимность и объективность советского нарратива о присоединении Северного Кавказа к России[167]. Один случай помог мне понять, что за таким общим «объективным» текстом могут скрываться частные своекорыстные интересы. В 2003 г. московский историк В.А. Захаров опубликовал извлеченную им из фондов РГВИА краткую записку по истории появления на российском Кавказе суфийского братства Накшбандийа-Халидийа и связанного с ним мусульманского повстанчества (мюридизма)[168]. Документ был обнаружен в личном фонде участника Кавказской войны (1817–1864) генерала В.И. Гурко. Он не имел ни подписи, ни даты. По упомянутым в тексте именам и реалиям Захаров верно отнес его к 1840–1843 гг. Работая осенью 2005 г. в Рукописном фонде Института истории, археологии и этнографии (РФ ИИАЭ. Ф. 1) в Махачкале, я случайно натолкнулся на источник этой записки. Довольно банальный и полный общих мест текст скрывал под собой захватывающую «туземную» интригу.