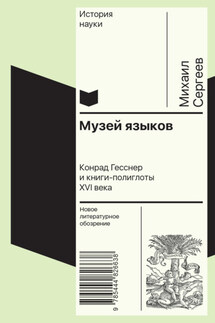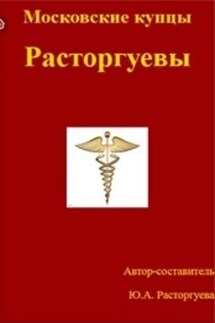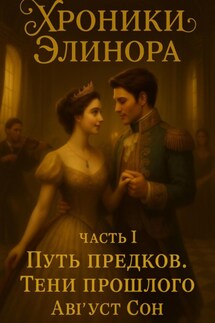Музей языков. Конрад Гесснер и книги-полиглоты XVI в. - страница 5
Основу этой книги составил текст кандидатской диссертации, начатой в 2007 г. и защищенной летом 2018 г. Занятия историей науки и новолатинской филологией в последующие годы22 позволили существенно переработать и дополнить главы монографии и справочный аппарат. Леонарду Георгиевичу Герценбергу, направлявшему мои научные поиски и открывшему для меня многообразие языков в исторической перспективе (если назвать лишь важнейшее из открытий), и Николаю Николаевичу Казанскому, который поддерживал мои научные и библиографические занятия в Институте лингвистических исследований, я безгранично признателен за уроки и учительскую заботу. Мое знакомство с историей книги и культурой Возрождения происходило в стенах Научной библиотеки Петербургского университета, где я всегда находил вдохновение и τὶ καινόν. Беседы с Николаем Ивановичем Николаевым, моим шефом, помогли критически взглянуть на многие гипотезы и формулировки этой работы. Но более всего меня поддерживали благоразумие и оптимизм моей жены Анны, благодаря которой я не свернул с выбранного пути.
20. XI.2024
Petropoli
Глава 1. Интерес к языкам в XVI в.
Священные, классические и варварские языки
Для европейских ученых, начиная с позднеантичных христианских авторов, исходной точкой осмысления языкового многообразия была интерпретация библейских легенд о смешении языков при строительстве Вавилонской башни и расселении народов, начала которым дали сыновья Ноя – Иафет, Сим и Хам – и их потомки (см. обзор версий: Duret 1619, 6–15; Metcalf 1980). Признание на основании этих свидетельств издревле существовавшего множества человеческих языков сопровождалось наделением некоторых из них особым, священным статусом. К их числу относились язык Бога, язык Адама, человеческий язык до Вавилонского столпотворения и языки Священного Писания (Fyler 2007, 1–59).
Неравенство языков было узаконено в образовательной практике: основное внимание в школах уделялось изучению латинского языка и классической литературы. Кроме разницы в культурном потенциале в качестве причины такого положения дел назывались сущностные различия языков: средневековые авторы неоднократно высказывались о невозможности грамматической регуляции языков народных (Percival 1975, 247–248), то есть «варварских». Даже в конце XVI в. находились ученые мужи (из числа иезуитов), утверждавшие, например, что язык восточных славян не может быть языком культуры, поскольку «из‑за обилия говоров он как бы внеположен грамматике» (Панченко 2000, 61).
Звукоподражательный термин βάρβαρος (первоначально засвидетельствованный в композите βαρβαρόφωνος у Гомера) применялся в качестве определения как к языкам, так и к народам уже у первых греческих авторов и подразумевал их «чуждость», «негреческость»23; при этом он мог употребляться как пейоративно, так и нейтрально (Rochette 1997, 41–48). Вполне очевидно, что статус «варварских» делал иностранные языки и народы нежелательными или недостойными объектами изучения, по крайней мере в определенных ученых кругах. Так, например, среди жизнеописаний Плутарха, как отметил С. С. Аверинцев, «нет ни одной биографии настоящего „варвара“», что вполне естественно для этого автора, «с неодобрением называвшего Геродота „приверженцем варваров“ (φιλοβάρβαρος – «О злокозненности Геродота», XII, 857 В) и порицавшего „отца истории“ за излишнее любопытство, с которым последний относился к подробностям истории и этнографии Востока (там же, XII–XV)» (Аверинцев 2024, 181–182).