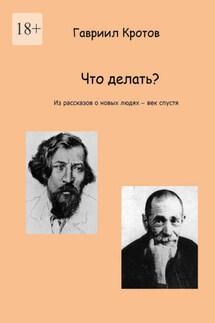Мы будем вместе. Письма с той войны - страница 31
В это же время, под влиянием преподавателя литературы Иванцова, мной овладела страсть к рифмам. Написал несколько приблизительно удачных стихотворений. Даже пробовал писать поэмы «Война» и «Мать». Из «Войны» Иванцов вычеркнул всё, за исключением одного:
«Мать» была более благосклонно разобрана, но надежд на славу оставалось мало. Начиналась она так:
И так строк на восемьсот.
Педтехникум издавал литературно-художественный журнал. Материал я перепечатывал в УО ГПУ39. Познакомился с начальницей ГПУ Ольгой Л. и… влюбился в эту тридцатилетнюю женщину. В ней соединялась женская красота с исключительной силой воли, энергией и обаянием. Я не говорю об её уме, о её змеиной мудрости. Она любила меня как «подающего надежды», учила работать, стаскивала с заоблачных высот, снимала панцирь эрудиции с людей, перед которыми я преклонялся, учила видеть человека там, где его трудно было заметить. Это был умный Мефистофель. Когда меня незаслуженно обидели в РКСМ и я пожаловался ей, она отругала меня за то, что я пришёл ей жаловаться, а не сообщать о том, что я победил.
Первая безнадёжная любовь.
Осенью 1924 года мы с отцом и матерью пришли домой с клубной постановки, где я играл бородатого крестьянина. Моя великолепная борода была «намертво» приклеена столярным клеем. В ожидании ужина и самовара (горячая вода для туалета) мы с отцом просматривали газеты. Вдруг раздался оглушительный выстрел. Я погасил лампу, опасаясь повторного выстрела. Отец был ранен. Пуля пробила бицепс правой руки, скользнула по брюшному прессу и пробила мышцы левой ноги. Можно было ожидать поджога. Я, взяв свой браунинг, вылез через пол сеней и созвал коммунистов села, а сам поехал верхом в ГПУ. Рогачёв меня не узнал. Наконец с отрядом и доктором мы вернулись домой. Стрелявший Ч. скрылся. Отцу было предложено переехать в другой город, но он отказался: «Что, бежать?!».
В этом году умер Ленин.
Смогу ли я описать всё, связанное со смертью Ленина: слёзы никогда не плакавших людей, радость тех, кто прятался от жизни и революционного сквозняка…
Жизнь втягивала меня в свой водоворот и несла так стремительно, что я не мог разобраться в людях, событиях и идеях. Ольга Л. старалась указать мне жизненные ориентиры. Книги и некоторые друзья тянули в небеса, жизнь и чувства будили ненависть к людям. Работа требовала любви к человеку, терпения к его недостаткам, считая их объектом для изжития. Я метался от Фейербаха к Ницше, от Ренана к Толстому и уходил к Э. Реклю, Фламмариону, Флоберу и книгам наших «старичков». Иногда бросал всё и уходил в тайгу на охоту.
Я жил в каком-то тумане книг, идей, горячих споров.
Весной я заболел сильной формой нервного расстройства. Семья переезжала в Оренбург (усилилось преследование отца). Книги мне были запрещены. Я большую часть времени проводил с детьми детдома: прогулки, рыбалки, костры и традиционная пионерская картошка.
В июле комсомольская ячейка провожала меня. Мы провели чудный вечер на большой скале около пристани. Пашка Голуб шутил, предсказывая мне столичную карьеру (Оренбург был центром Киркрая40), Зойка Фёдорова запевала песни, Фаина объяснялась в любви, Ольга Л. приехала верхом проститься со мной. Мне жаль было её, прекрасную амазонку, и я боялся, что без неё запутаюсь окончательно.