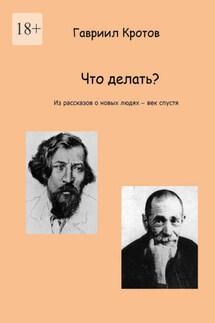Мы будем вместе. Письма с той войны - страница 32
Сурово на прощанье посоветовала мне:
– Нервы у тебя девичьи, а организм медвежий. Плохо это, Ганька. Молод ты, а баба тебе нужна. Мне бы надо тебя пожалеть. Другая-то тебя соплями заманит, а ты, дурень, ещё рад будешь, мол, блеску много. Но ты не торопись с этим делом. Найди себе не «нашу» бабу, а такую, чтоб она вся для тебя желанная была.
Много она наговорила. Я сказал ей, что любил её.
– Знаю. Потому и держала около себя. От меня ты к другой не пошёл бы, а беречь тебя надо было. Ведь ты всему отдаёшься целиком, нет у тебя половинки.
В 12 часов отходил пароход.
Проходили скалы и горы, Иртыш показывал свою красоту в последний раз.
Оренбург…
Встал на учёт в райкоме. Встретили холодно – «из Назарета может ли быть хорошее?». Платил членские взносы, посещал собрания, но держался в стороне. Работал с отцом столяром. Здоровье восстановилось, заработки были неплохие. Вечера проводил в читальне.
Однажды ко мне подсела работница читальни Гостева.
– Кем вы работаете?
– А там, в абонементной карточке указано.
– Во-первых, так невежливо, а во-вторых, я боюсь за вашу систему читать книги.
Как она втянула меня в разговор?.. Но мы сделались друзьями. С ней я делился впечатлениями, она меня познакомила с А. С. Белениновым.
Незаметненький старичок с вечно молодой душой, он стал мне другом и учителем.
Когда он прослушал мою «Мать» (биографическая вещь), он спросил:
– Сколько вам лет? Пятнадцать. Великолепно. Пишите. И вот вам моя рука – из вас будет неплохой журналист. (Утешил!) Тут же он безжалостно разбил мою «Мать» на мелкие части, которые оказались хламом, собранным в нелепую систему, и заставил рассказать устно мысль.
Нечаянно слава (популярность местного масштаба, которую я принял за славу) озарила меня.
Я работал уже воспитателем и вожатым детколонии, вошёл в члены бюро райкома.
Был 1927 год. Безработица, НЭП, есенинщина.
На бюро райкома разбирали дело о бытовом поведении Н. Обвинив её в проституции, её исключили. Мой протест, и ещё одного, потонули в море презрения. Помню, меня трясла малярия – я ушёл на двор, лёг на смолистые доски и решил написать в стенгазету:
И т. д.
Поместили в стенгазету, а девчата чуть не разнесли райком. Булатов ругался:
– Дёрнул чёрт тебя цицеронить.
Слабенькая вещь, но по тому времени, моему возрасту и соцположению она казалась острой.
Продолжение следует.
Перешёл на работу в школу преподавателем ИЗО
(без даты)
Поощрённый успехом (о мёд славы!), я разразился залпом кабацких стихов. Тогда модно было петь о…