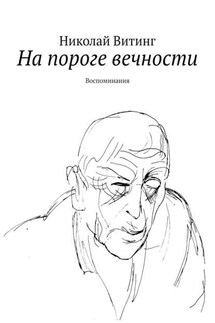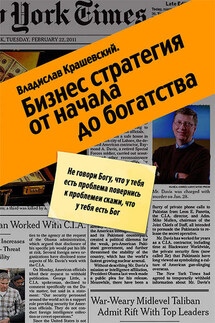На пороге вечности. Воспоминания - страница 8
Когда писались эти последние строки, произошло непредвиденное.
В ночь с 22 на 23 января 1978 года я проснулся от резкой боли в правом боку. Начались почечные колики. В течение трех дней приступ следовал за приступом. Три раза вызывали скорую помощь. Наконец, я попал в больницу. Обстановку больничную описывать не приходится. Кто побывал там, тот это знает. Была назначена операция, но камень из почки вышел сам, и необходимость в операции отпала. Видимо, выход камня из почки и проход его по мочеточнику сопровождался сильным кровотечением. Выходила кровь и черные сгустки запекшейся крови. Временами я чувствовал себя так плохо, что думал: продолжить свои воспоминания уже не придется. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Камень хоть и застрял в конце мочеточника, но боли прекратились, воспалительный процесс был приостановлен, и я вернулся домой. Состояние было еще болезненное, сказывалось последствие многочисленных уколов. Мысли были еще больничные. Я думал – самым большим несчастьем для человека является то, что он рождается на свет. Из окон больницы я смотрел на корпус, в котором расположился родильный дом, и думал – несчастные, они уже попали в сачок жизни, теперь им уже никуда не деться. Но я почувствовал, что, когда я так подумал, появились какие-то предпосылки к оптимизму. На самом деле. Вот, представляется возможность прожить жизнь. Единственный раз. Можно, конечно, отказаться от этого. Тогда… как это… не жить. Нет, появляется жадное желание воспользоваться возможностью прожить жизнь. Хоть и сознаешь, что это страдание. Великое страдание. И, конечно, прав гениальный знаток жизни – может быть, страдание – это и есть жизнь. Хоть и считал, что человек рождается для счастья.
Меня могло бы уже и не быть, а на земле совершилось бы чудо: в парикмахерской сидит клиентка с роскошными светлыми распущенными волосами, льющимися красивыми золотыми волнами, на ней темно-синее платье, стройные ноги закинуты одна на другую, рядом с ней парикмахерша в белом халате. И все это свежее, молодое, напоенное жизнью многократно отражается в больших зеркалах. А меня могло бы не быть, и я не видел бы это чудо. Радость зрения. Счастье видеть.
Итак, я был принят в институт. Помню преподавателя Шемякина, помню первый поставленный им натюрморт – громадный нелепый металлический кувшин. Живописного факультета еще не было, он появился лишь через год. С нашего графического факультета желали перейти туда многие, но перевели туда только Аду Зоненштраль (впоследствии Новикова), Олю Светличную, Гришу Малянтовича, Ваню Гринюка (тогда еще носившего фамилию Тупица), меня и еще нескольких студентов.
Меня почему-то определили к Иогансону. Мне хотелось быть у Сергея Васильевича Герасимова. Я попросил его об этом, он согласился. Теперь предстоял неприятный разговор с Иогансоном – сказать ему, что я ухожу от него. Мне всегда казалось, что он мне этого не простил.
В мастерскую Герасимова, кроме нас, были приняты ребята из техникума им. 1905 года. Среди них Виктор Смирнов, Женя Деффине, Юра Кугач и другие.
Тогда все были равны, но как чудовищно оказались неравными наши судьбы в дальнейшем.
Юре Кугачу предстояло стать виднейшим нашим художником – народным художником СССР, действительным членом Академии Художеств, сохранить крепкое здоровье, прожить долгую жизнь. Виктору Смирнову предстояло погибнуть на войне в первый же ее год. Жене Диффине – умереть в эвакуации. Аде Зоненштраль – повеситься в расцвет своего большого дарования. А Олечке Светличной предстояло прожить жизнь безмятежную и полную довольства. Мне предстояла своя судьба. Но тогда, на первом курсе живописного факультета Московского государственного художественного института, никто об этом ничего не знал. Все это было еще впереди. А тогда, в далекие тридцатые годы, мы были веселы, юны и полны самых светлых надежд.