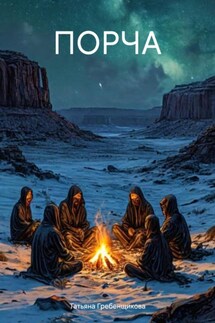На стыке эпох. Откровения дипломата - страница 2
К сожалению, мою двоюродную сестру Антонину, старшую сестру Константина, после войны сослали в Сибирь (в Томск), где она умерла от туберкулёза менее чем через год. Она была намного старше меня, но я её хорошо помню. Позже мы узнали о судьбе Антонины от её родителей, Петра и Виктории, которые прожили с нами пару месяцев.
В последние месяцы войны, как и после войны, многие местные ребята разбежались по лесам. Они скрывались от призыва в Советскую Армию. Их массово призывали в вооружённые силы и отправляли в Курляндский котёл воевать за советскую власть. Я знал троих таких «беглецов» – моего двоюродного брата, отца моего друга и ещё одного соседа. Они время от времени спали у нас дома, ночевали на полу. Маму просили дать им подушки. Мы не могли никому ничего о них говорить. Днём они прятались в лесу. В 1947 году все трое обратились к официальным властям в Резекне и после фильтрации остались живы и здоровы и начали нормальную гражданскую жизнь.
Сразу после войны в Вилянах появилось много русских семей с детьми. В результате массовой и планомерной миграции Виляны стали двуязычным городом. И по сей день в Вилянах проживает более 50% русских и только 47% латышей. Во времена Улманиса4 в Вилянах проживало 1,3 тысячи человек. В советское время население городка выросло до 4,7 тысяч. Согласно статистике, на момент написания этой книги в Вилянах проживало менее 3 тысяч жителей. Я прекрасно помню послевоенные потоки мигрантов из огромного Советского Союза. Из нашего дома было хорошо видно железную дорогу, по которой шли составы с переселенцами из Москвы в Ригу. Многие из них сидели на крышах вагонов. Голодные, облезлые и грязные, они смотрели на наши поля, леса, дома, людей.
Конечно же, война дала о себе знать. Царил тотальный дефицит. Не было ничего. Так как у нас было своё хозяйство, мы не умерли с голоду. Примерно в 1949—1950 годах наши земли и скот перешли совхозу, позже Вилянской селекционно-испытательной станции. Нам великодушно оставили одну корову. Наверно, мы не оказались в Сибири только потому, что по меркам властей нас причислили к беднякам.
События приходили и уходили, и я рос вместе с ними. Я получил первое католическое причастие в 1945 году.
Церковные праздники были прекрасными, но моим самым большим праздником были школьные каникулы. В школе музыка стала наслаждением для моей души. Я пел в школьном хоре, танцевал, играл на духовых инструментах, трубе и теноре.
Я учился в Вилянской средней школе. Утром 3 километра в школу, вечером 3 километра назад домой. Ходил из нашего хутора вместе с соседями Леоном Тутаном и Адольфом Саминьшем. Ходьба подталкивала к размышлению. Пока идёшь, хорошо размышлять о самых разных вещах и напевать где-то услышанные мелодии. Обучение в школе велось в трёх параллельных классах – двух латышских и одном русском. В моём классе было 25 учеников. Моими любимыми предметами были география и история. Меньше всего любил математику. Из языков, помимо латышского и русского, у нас был английский.
Хотя русский язык у нас начали преподавать только с 4-го класса, я заговорил по-русски гораздо раньше. После войны вокруг собралось много русскоязычных детей. Как-то ведь надо было объясняться.
В наше время в Латвии не было октябрят. В 1950 году весь наш класс приняли в пионеры. Раздали красные галстуки. Мы их каждый день не носили – только по праздникам. Пионервожатым у нас был мужчина. Приём в пионеры оказался несерьёзно формальным. Вожатый вошёл в класс и спросил, согласны ли мы вступить в большой отряд советских пионеров. Мы ответили: «Всегда готовы!» Для нас это ничего не значило – все согласились, но и другого выбора не было.