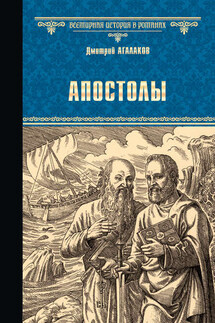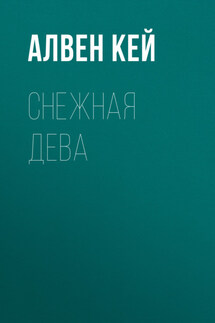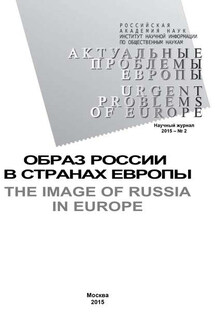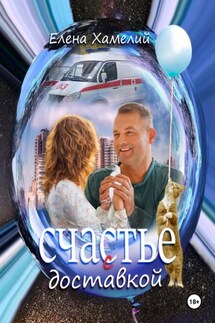Наследник земли Русской - страница 8
Глава первая. Соколиная охота
По остывшей осенней степи ехали всадники. За их спинами медленно клонилось к далекому горизонту вечернее солнце. Золотисто-алый свет щедро расплескался по высокой желтой траве и густым косам белого ковыля. Запах трав одурманивал и пьянил. Из-под копыт лошадей то и дело вспархивали перепелки, опрометью вылетали перепуганные зайцы. Живностью полнилась вся округа. Это была бескрайняя страна Дешт-и-Кипчак – Половецкая степь, улус Джучи. Полтора века назад ее завоевали монголы и другие племена, которых они прихватили на дорогах войны и потащили за собой, на запад, к последнему морю. И теперь обосновались тут, в благословенном краю, где обрели воистину земной рай. Далеко на юге от этих мест шумел волнами Каспий, совсем рядом на западе веером рек и речушек входила в него Волга и ее главный приток Ахтуба, на берегах которой и выросла новая столица монголо-татар – Сарай-Берке. Монголы со всей страстью степняков любили такие вот просторы, и старший сын Чингисхана – Джучи, от любимой жены Борте, получил во владения эту великую страну, простиравшуюся от Понта Эвксинского – Черного моря – и Каспия до грозного Камня – Уральских гор, и еще далее, почти до самого Байкала, недалеко от южных берегов которого когда-то и родился великий покоритель мира – Тимучин, позже объединивший свои племена, завоевавший полмира и создавший невиданную прежде империю на просторах Евразии.
Всадников было десятка два, несомненно, это были воины, все при мечах и луках, но сейчас не битва с неприятелем занимала их помыслы. У двух из них на поднятых горизонтально руках в грубых кожаных перчатках сидели соколы с клобучками на головах. По степи ехали охотники! Все они одеждой и лицами выдавали свою принадлежность к монголо-татарскому народу, хозяину этих земель, кроме трех всадников славянской наружности – воина при длинном варяжском мече, в плотном кафтане, препоясанном широким кушаком, и двух отроков. Обоим было лет по двенадцать. Один совсем золотоволосый, другой заметно темнее. Оба в кафтанах византийского покроя, с широкими рукавами, в легких шапках-четырехклинках. Богатырь ехал на гнедом скакуне, светловолосый отрок на белоснежном, темноволосый на рыжем.
Вперед выехал татарин в дорогом расписном халате, при луке и кривом мече. По всему – командир отряда. Потянул носом пронзительно свежее и упоительно душистое благоухание, хитро прищурил и без того узкие глаза:
– Какой воздух, а, княжич? Воздух степи! Чуешь?
– Чую, – скупо ответил светловолосый мальчишка.
Но это было только начало. Степняк многозначительно продолжал:
– Такого воздуха в ваших городах и лесах нет. Там болотом пахнет, особенно в Московии вашей, гнилью тянет отовсюду. Да удушливой духотой ваших изб. Даже в княжеских хоромах, где я бывал не раз, воздух сперт. А уж каков запах в храмах ваших, не вдохнуть не выдохнуть, хоть ножом его режь. Помню, въехал я на своем коне в один храм, так чуть не издох на месте. Точно петлю на шею накинули, и все тянули и тянули! – весело и откровенно рассмеялся он.
Белокурый юноша нахмурился – не ответил.
– А мы привычные, – ответил за него воин с варяжским мечом. – Нам запах церквей наших, что Божья благодать. А вот на коне въезжать в храм – грех. Бог-то он все видит. Особливо тех, кто оскорбляет его.
– Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммеда, пророка его, – свысока и зло бросил степняк.