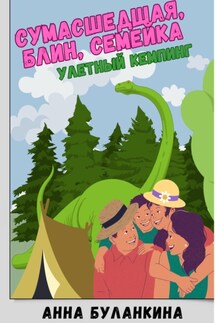Читать онлайн Татьяна Хорунжая - Непокоренные
«Есть миры во Вселенной, где никогда не было
жизни. Есть миры, испепеленные и разрушенные космическими катастрофами.
Нам, Землянам, повезло:
мы живы, мы сильны, благополучие нашей цивилизации
и нашего вида в наших руках.
Если мы сами не позаботимся о собственном выживании, то кто сделает это
за нас?»
Анатолий Иванович Савин
«Вся земля не стоит даже одной капли
бесполезно пролитой крови».
Александр Васильевич Суворов
Глава 1
«Жизнь! Есть ли во Вселенной что-то более прекрасное?
Карасики живые – и даже сами не знают, как они
прекрасны: плавают себе, никогда ни о чем не задумываясь, блестят на солнце серебряными чешуйками.
Трава живая – и она прекрасна даже под водой, неспешно колышется в пронизанной светом низине.
И я живой. И тоже, вроде бы, неплох… Мама говорит, что в моих глазах целое небо».
Я лежал на деревянном мостке, заглядывая туда, где
плавали карасики, и любовался. Так спокойно, неспешно
и размеренно протекало их существование в прозрачной
воде над желтым песком.
Мои размышления прервал звонкий Нюркин смех.
– Николайка! – вся выпачканная в горячем песке
кричала мне маленькая Нюрка. – Пока ты там валяешься,
они опять «тарзанку» заняли!
К ветке старой ивы, наклонившейся к реке, была
привязана веревка, а к ней толстая палка, чтобы удобнее
держаться. Это и была наша старая добрая «тарзанка»,
которую осадила наша ватага деревенских ребятишек.
Павлушка, разбежавшись, красиво прыгнул с «тарзанки» в речку, окатив нас ледяными брызгами. Нюрка завизжала от восторга, а я подставил каплям лицо и плечи. После
жаркого утра, проведенного в пекле покоса, особенно понимаешь, почему в русских сказках воду называют «живой».
Сегодня воскресенье. Полдень. За утро мы уже досыта наработались на сенокосе и теперь наслаждались заслуженной передышкой. В честь выходного дня работы в
колхозе не много, поэтому все торопились успеть сделать
побольше по собственному хозяйству. Мои отец и дядя
заготавливали сено для наших коров. А после сенокоса
начнѐм крыть новую крышу. Дед уже отправился добывать для неѐ дранку1. «Переменная работа называется отдыхом!» – всегда говорил отец.
Работали всем миром, всей деревней. Мужчины косили сочную траву стройными рядами, выкашивали даже
овраги и опушки в лесу, поскольку скотины у всех было
много. А раскидать или перевернуть граблями траву неподсушенным боком кверху, собрать готовое сено в снопы ходили мы и женщины.
Васятка достал старый платок, бережно завязанный
матерью в узел.
– Мне тут маманя харчей малясь дала… – он развязал тугой узел и достал из платка половину краюхи хлеба, несколько луковиц с длинными зелеными перьями и 4
яйца. – Налетай! Яиц на всех не хватит.
– О! Живѐм! – обрадовался Павлушка и без лишних церемоний схватил яйцо для себя и для младшей
сестренки, Нюрки, которую всегда и всюду таскал за
собой. Они жили беднее всех нас, и возражать против
такого поведения никому и никогда не приходило в
голову. Еще одно яйцо взял выпрыгнувший из воды
Сашка.
– Николайка, будешь? – предложил мне последнее
оставшееся яйцо Васятка.
– Да ну…– фыркнул я. – Терпеть их не могу! Они
пахнут противно.
– Ну как хочешь, – Васятка не спеша поел и растянулся на траве, подставляя и без того обгоревшее лицо
горячему солнцу. – Эх, хорошо летом!
– Да уж, это тебе не в школу идти… Хоть бы она
сгорела за лето, что ли…
– Ну вспомнил! Сегодня еще 22 июня, а ты уже про
школу ладишь. Целых 2 месяца впереди.
– Так все равно идти же придется! – уже раздосадовался я. – Лучше уж на сенокосе всю жизнь проработать,
чем к нашему Петру Владимировичу на один урок попасть… Придумали же наказание для детей! Сами-то
взрослые в школу не ходят…
– Если ты двоешник – это не означает, что школа для
всех наказание, – резонно заметил Сашка и, разбежавшись, снова плюхнулся в воду.
– Эй, бездельники! – раздался голос мальчишки,
прибежавшего из деревни. – Вы чего тут как долго? Вас
уже родители ищут!
– Ладно, пойдѐмте домой. Скоро на вечерний покос
собираться, а дома ещѐ работы полно.
Уже на подходе к деревне мы поняли, что что-то
случилось, пока нас не было. Людей на улице было
больше, чем обычно. Все шли к сельсовету с встревоженными и растерянными лицами. Навстречу нам, уже от
сельсовета, пробежала соседская Маруся, размазывая по
лицу слѐзы. Мы переглянулись и молча, не сговариваясь,
сначала ускорили шаг, а потом и вовсе побежали туда,
куда шли все. Волнение нарастало.
На площадке у сельсовета толпилась, наверное, уже
треть жителей деревни. Раньше на этом месте стояла церковь, у которой люди собирались по всем важным деревенским событиям. Церковь взорвали еще до моего рождения, а место всеобщего сбора осталось. Люди шумно
галдели, ничего было не разобрать. Мы кинулись в толпу.
– Что случилось? Да что случилось? – стали спрашивать мы всех подряд. Никто не обращал на нас внимания.
Коля увидел знакомого и схватил его за рукав.
– Что? Что случилось?
Знакомый обернулся.
– Война! По репродуктору объявили…
Коле показалось, что он не расслышал.
– Война? Да с кем же?
– С немцами. Фашисты идут…
Коля в растерянности выпустил рукав знакомого. Мы
ещѐ не могли понять, чем это грозит нашей стране,
нашим семьям, нам самим. Но каждому поскорее захотелось домой, поближе к своим. Мы как-то незаметно стали
расходиться кто куда.
Я тоже пошел домой. И, кажется, ничего ещѐ не изменилось, и вроде бы то же горячее солнце в небе, и так
же ты идешь домой с речки. Но по лицам идущих рядом
с тобой взрослых понимаешь, что случилось что-то
непоправимое, необратимое и неизбежное, и надвигается
что-то огромное и страшное.
И только маленькая Нюрка неуместно продолжала
смеяться. Она вообще не понимала, что происходит.
Я помню, как рядом со мной ветер – суховей гнал по
пыльной дороге клубочки свежего сена. И девчонка с соседней улицы побежала по деревне с печальной вестью:
«Война!..», и крик ее разносился далеко по уголкам дворов, надолго застревая в головах всех, кто его слышал.
Наверное, до последнего моего дня этот крик будет стоять у меня в ушах.
Так начался первый день нашей войны. Так закончилось наше детство.
* * *
Дома уже знали. Мне не пришлось ничего рассказывать. Мама с порога не дала мне и рта раскрыть:
– Иди за дедом сбегай на делянку!
Я побежал через усадьбы в лес. Дед заготавливал
дранку и ничего еще не знал. Сидя на пеньке, он обычным топориком обрабатывал грубые поленья, превращая
их в гладкие, красивые дранки, которые кидал рядом в
большую груду. Приятно было смотреть на его работу.
Все в селе знали, что наш дед – лучший плотник. «Надо с
любовью свою работу делать, тогда всѐ получится!» –
всегда говорил он. Я встал у берѐзы и стал любоваться.
Дед заметил меня. И хотя его улыбку не было видно
в красивой седой бороде, но я видел, что его голубые
глаза улыбаются.
– Чего? – спросил он меня. – Мать обедать зовет?
– Там это… – вспомнил я, зачем пришел. – Война
началась…
Дед занес было топорик и вдруг замер с поленом в руке. Руки его опустились и бросили вдруг ставшее не нужным полено:
– Крышу, видно, уже не сделаем…
Встал, отряхнулся от стружки и пошѐл домой.
Этот обед стал семейным сбором. Пришли мамин
младший брат с женой и дочкой и соседский дед Митрич,
вечный наш товарищ. Он оказался единственным из нас,
кто лично слышал объявление народного комиссара Вячеслава Молотова по радио.
Когда пришли мы с дедом, все уже сидели за столом,
обедали и обсуждали важное правительственное сообщение. Мать ставила на стол чугун с горячими ароматными
щами. Обе мои младшие сестры прискакали на запах,
подсели к двоюродной сестрѐнке, и детская сторона стола сразу облепила тарелку с вкусным хлебом, который с
утра испекла мама. Соседский дед Митрич сидел у входа
на стуле, отказавшись обедать, и вещал:
– … Так и сказал, я сам слышал: «Сегодня в 4 часа
утра германские войска без объявления войны напали на
нашу страну…» Города на границе бомбят… – он приподнялся, чтобы пожать руку деду.
– Сам Молотов сказал? – уточнил дед.
– Молотов-Молотов! Вот те крест! А он шутки шутить не будет! Читает, а сам сбивается и будто с трудом
выговаривает… И добавил в конце ещѐ: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
– Конечно, будет! – хмыкнул мамин брат. – Еще мы
не давали наших обижать!
– Садитесь щи хлебать! – позвала нас мать. Я сел к
сестрам и взялся за ложку.
– Наших-то мы, понятно, в обиду не дадим. Финнам вон
всего год назад показали, как наших обстреливать! Но кто
дома останется, если мы на войну уйдем? – отец нахмурился.
– Ну сходим, надаѐм им по шее, да вернемся урожай
убирать! – бахвалился дядя.
– Какая еще война? В самый покос! А работать кто
будет? – мать явно не собирались их отпускать ни на какие другие фронты, кроме покоса и крыши.
– Ну как ты думаешь, есть ли у нас шанс остаться в
тылу, если мне 34, а ему – он кивнул в сторону маминого
брата – 28? – он задумчиво положил ложку.
Мать махнула полотенцем в знак того, что и слышать
ничего об этом не хочет, и ушла в чулан за кашей.
– Сказала – не пущу!
– Да немцы от нас еще драпать будут! – горячился
дядя. – Жаль только, что сына своего не увижу… – его
жена с огромным животом сидела рядом и едва глотала
хлеб вперемешку со слезами.
– Э-эх, молодой ты еще, горячий и бестолковый! –
урезонивал его дед. Сам он знал, что такое война, не по-
наслышке: и в первой мировой воевал, и в гражданской… Никогда его жизнь не баловала.
– Да не переживайте вы! Всѐ мы успеем – и фашистов прогнать, и крышу покрыть!
Я робко подал голос:
– А если не успеем?.. А если не мы фашистов, а они нас?..
Все замолчали и посмотрели на меня.
– А ты чего слушаешь, когда взрослые разговаривают? – крикнула мне мать из чулана. – Ешь быстрее и иди
сено переворачивай! И Нарядку из стада не забудь встретить, когда с сенокоса пойдѐшь.
* * *
Ночью родила жена дяди.
«Сыном» оказалась малышка, которую назвали Любой. «Любовь! – сказал дядя. – Это имя подходит каждой
девчонке! А особенно тем, кто родился в день начала
войны».
– Вот тебе и сын! Опять девка! – смеялись утром дед,
отец и Митрич, когда дядя пришел с благой вестью.
– Ну и что ж, что девка! Папино счастье – дочки! –
дядя делал вид, что никогда и не говорил до этого фразы
навроде «Мне только сына!», «Ну наконец-то и у меня
сын будет!» и теперь страшно гордился дочерьми. – Да
дочки, если хочешь знать, только у настоящих мужиков
рождаются!
– Что ж, выходит, я не мужик, коли у меня два балбеса родились, что ли? – рассмеялся Митрич.
Все хохотали.
– Ну мужик-мужиком, а спор-то ты проиграл…–
напомнил дяде отец.
– Какой ещѐ спор?
– Что если опять девчонка родится – на руках до
сельсовета пройдешь.
– А я от слов своих не отказываюсь! – вспомнил дядя, вскочил на руки и пошел через порог на улицу. Мы
пошли за ним – контролировать. Видя такую процессию,
к нам, хохоча, присоединялись и зеваки на улице, и к магазину мы пришли уже большой толпой.
– Мужик сказал – мужик сделал! – и дядя снова встал на
ноги. – А вот, я помню, ты говорил, что Митрича до Петровны
на плечах донесешь, если я на руках до сельсовета дойду…
* * *
Жаль, но радоваться Любиному рождению пришлось
нам совсем недолго.
Отец оказался прав: уже к вечеру повестки принесли
в каждый двор. И везде, откуда выходил разносчик, раздавался плач.
В нашей семье их оказалось аж три штуки: для отца,
дяди и деда.
Митрич, давний товарищ деда, прошедший с ним не
одну войну, увидел повестку деда и захохотал:
– Иваныч, да неужто и тебя в мужики записали?