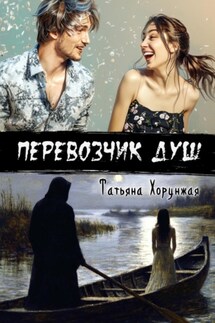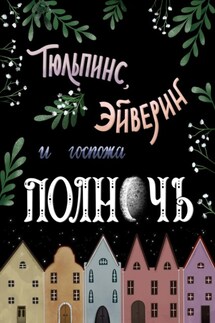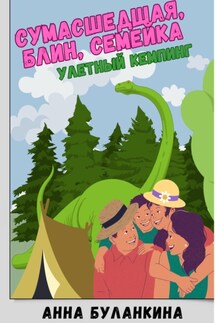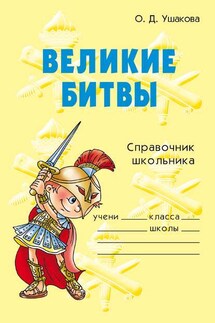Непокоренные - страница 5
многострадального и мученического города. Разворачивалась битва за нашу столицу – Москву.
Европейская часть нашей родины – СССР3 – уже была поставлена на колени и глотала слѐзы от потерь и боли, но не склонила головы перед жестоким противником.
Она ждала, ждала помощи, которая могла прийти только
от нас. Больше помощи ждать было не у кого.
Уже третьего июля начальник немецкого генерального штаба Франц Гальдер докладывал Гитлеру, что задача
разгрома главных сил русской армии уже выполнена и теперь речь пойдет «не столько о разгроме вооруженных сил
противника, сколько о том, чтобы забрать его промышленные районы и не дать ему возможности, используя гигантскую мощь своей индустрии и неисчерпаемые людские ресурсы, создать новые вооруженные силы».
И здесь удача сопутствовала фашистам. Летом 41 года 80 % заводов СССР оказались в зоне боевых действий
и на оккупированных территориях, и теперь либо были
стерты с лица земли, либо вынуждены были работать на
фашистов. А те оставшиеся 20%, кто еще не был покорен, срочно эвакуировались вглубь страны и пока не
могли наладить производство. У нас не было ни оружия,
ни машин, ни простейших бытовых необходимостей.
Остался лишь один крупный город, оборонные предприятия которого работали на полную катушку, – город
Горький4. И теперь бесчеловечная машина фашистов
разворачивалась в сторону нашей, Горьковской, области.
* * *
Вскоре из колхоза отправили на фронт всѐ, что могло ездить и ходить, то есть все исправные трактора и
здоровых лошадей. Остались только несколько старых
слепых кляч, комбайн и пара ржавых тракторов, которые признали непригодными к использованию. Но безо
всяких скидок на трудности колхоз должен был бесперебойно снабжать город и армию сельскохозяйственной
продукцией, а промышленность – сырьем.
Вместо лошадей женщины приспособили запрягать
в плуг колхозных и своих домашних коров. Когда коров
не хватало – в плуг запрягали по 4 и по 6 женщин, что
посильнее. И те тащили его не хуже трактора. Но к осени многих женщин деревни, особенно молодых и бездетных, забрали на заготовку торфа под Балахну. Торф
они копали для того, чтобы солдаты и мирные жители
могли использовать его вместо дров – топить печки, варить кашу.
Матери повезло: в своѐ время отец научил еѐ управлять комбайном, и теперь она стала комбайнѐром.
Впрочем, это не освобождало еѐ от основных обязанностей на ферме. В 4 утра мать вставала и уходила на работу, а тѐтя шла сначала добывать еду для нашего голодного семейства, а потом полоть наш огород. Хвостом
за ней ходили «помощницы» – мои сестры. Они сидели с
Марусей, помогали полоть, мыть, стирать и ухаживать за
животными. Часто от их «помощи» работы тѐте только
прибавлялось… Мне давали поспать ещѐ пару часов –
всѐ-таки каникулы, жалко. Я просыпался сам и шел в
колхоз помогать матери. А дед… Дед успевал всюду.
За работу в колхозе каждый получал «палочки» –
пометку в журнале о выполненных трудоднях. К сожалению, на «палочки» ничего нельзя было ни купить, ни поменять, и труд наш оставался неоплаченным.
Честно признаться, я так наработался за лето, что
был уже вовсе не против школы.
Но 1 сентября новый учебный год для нас не начался. Нашего учителя Петра Владимировича, который преподавал почти все предметы, забрали на фронт, и пока
искали хоть кого-то, кто мог учить нас, начало учѐбы отложили. Можно было бы ходить в школу в районный
центр, но это занимало бы слишком много времени и родители не отпустили нас – кто-то ведь должен был продолжать пропалывать грядки, ухаживать за животными и