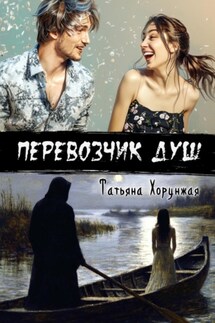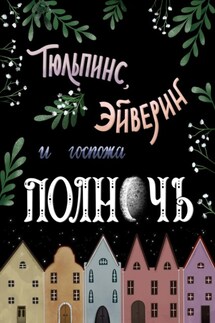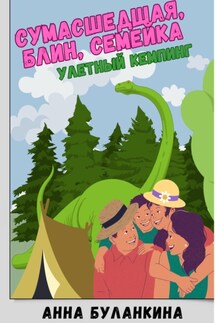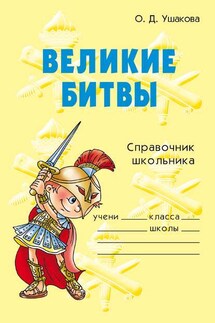Непокоренные - страница 7
пояса.
Когда мы докопали картошку на своем огороде и покидали еѐ в большую кучу перед погребом, я схватил несколько картошин, чтобы, как раньше, вместе с мальчишками запечь еѐ в костре. Мать увидела.
– Не трожь картошку! – прикрикнула она. Я отдернул руки. – Вынем на особый случай… – тихо добавила
она.
Я посмотрел на младшую сестру. Тоже хочет картошки, по глазам видно. Но молчит.
– Почему мы не едим картошку? – возмутился я. – У
нас же еѐ много!
– Много? А весной что сажать будешь?
И правда: когда мать отложила на семена необходимое количество картошки и ржи, оказалось, что на еду
остается совсем мало, и нужно постараться «растянуть»
их подольше, а лучше всего до следующего лета. Мы
стали беречь каждую картошину, каждую кружку муки.
И если и ели когда картошку, то вместе с кожурой, чтобы
еѐ было больше – чистить никому даже не приходило в
голову.
Я ел больше всех. Никто столько не ел – ни мама, ни
дед, ни тем более младшие, и за это мне было стыдно. Я
старался есть поменьше, но у меня никак не выходило.
Кушать хотелось всегда, постоянно, день и ночь…
Мы открыли для себя ранее неизведанные продукты.
По совету деда, едавшего в своей жизни и не такое, тѐтя
научилась варить кашу из лебеды. Еѐ же она клала в муку, когда пекла хлеб. Постепенно муки в хлебе становилось все меньше, а лебеды – все больше.
Еще оказалось, что жѐлуди довольно вкусные и,
главное, сытные. А в лепѐшки можно добавлять вообще
всѐ, что угодно – и крапиву, и мѐрзлую картошку.
Осенью, предчувствуя, что зима будет непростой, все
старались максимально заготовить квашеной капусты и
мочѐной антоновки, насушить и засолить грибов, запастись орехами.
– Надо бы заготовить побольше лебеды на зиму, –
сказала мать. Мы пошли за колхозный двор, где летом
было полным-полно лебеды, но оказалось, что кто-то догадался собрать этот урожай раньше нас. Тогда мы
насушили на зиму конского щавеля и подорожника, чтобы печь лепешки, листьев смородины, иван-чая и мать-имачехи, чтобы заваривать из них чай. Ходили копать
гнилые и промерзшие после первых морозов картошки,
оставшиеся после сбора колхозного урожая.
Но с каждой неделей становилось всѐ голоднее и голоднее. А впереди – долгая зима…
Иногда мне становилось страшно: что будет дальше?
Я ощущал смутную ответственность за происходящее.
Дед уже совсем… дед! А кроме него кто остался? Женщины да дети? Я же самый взрослый среди детей… Отец
перед отъездом оставил меня за старшего… Мне хотелось что-то сделать – что-то такое, что разом поправит
наши дела! Но я не знал – что.
А из района приходили всѐ новые и новые директивы, сколько мы должны сдать государству…
Как-то раз мы хлебали похлебку из желудей и увидели в окно, что наш местный партработник ходит по дворам и с тоской оглядывается, что бы еще можно было
взять. Брать было нечего.
Проходя мимо нашего дома, он вдруг заслышал нашу
козу, как назло так не вовремя подавшую голос. Глаза его
загорелись. Он решительно открыл нашу калитку и вошел на двор.
– Ну всѐ, забирают нашу Белку… – заметил дед.
Мать решительно встала и вышла на двор.
– Как забирают? – испугался я. – Но ведь если Белку заберут – Люба… погибнет! – я вскочил и побежал за матерью.
Партработник был уже у Белкиного сарая.
– Козу забираем для нужд фронта! – заявил он вышедшей к нему матери.
– Козу не отдаю, – спокойно, но громко ответила мать.
– И не стыдно тебе жадничать, когда все люди отдают последнее для фронта! – укорил еѐ партработник.