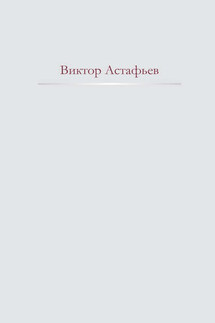Нет мне ответа… - страница 119
Вы меня поняли?
Ваши рассказы о людях (название «Смерть музыканта» – действительно худое и даже вычурное в данном случае и опять же плохо названный рассказ «История одной любви») – лучшие и наиболее цельные в сборнике. К ним присоединяется свежо (видимо, недавно написанное) этакое славное вступление к сборнику. Остальное надо как-то разбавлять, надо как-то освежать, а то ведь дышать нечем – такая духотища и тоска. Причём рассказ об охотничьей собаке написан в духе «Бима» – это когда собака очеловечивается до того, что и мыслит за человека и её глазами обсуждаются и решаются поступки человека. Но так как они всё же от собаки и совсем «по-человечьи» не может быть, начинается то хитренькое упрощение под хитренького Троепольского, когда поступки человека излагаются как бы со стороны и поверхностно – вот и гадай, отчего хозяин сделался таким. В мать свою сволочную удался, в армии ли особачился? От роковой ли любви озверел до того, что собаку свою стрелять взялся!..
Всё слишком сверху нахватано, слишком везде в рассказах о животных этот самый натурализм и жалость эксплуатируются. А когда начинается о людях, появляется другая беда: разобщённость и житейская, и душевная. Есть она? Есть. Но так ли уж остро воспринимается и претерпевается, как нами – людьми пишущими и, жеманно выражаясь, интеллигентно чувствующими? Нет и нет!
Я много лет знаю свою деревушку Быковку на Урале – она постепенно вымирает, народу в ней остаётся всё меньше и меньше, но всё-таки мои быковцы (а у меня уже есть основания называть их своими) хоть и отдалены, хоть и шибко оторваны от остального мира – тоже тоскуют, и работой заняты, и загулять могут. А летом: грибы-ягоды, сено, дрова да гости городские, – им не до тоски, однако, а то, что у них на душе, – они выскажут хотя бы моей жене и облегчатся, и живут просто, ненадоедно: попивая, сплетничая, помогая друг дружке. И мир их этот, и жизнь ихняя не нуждаются в нашем сочувствии. И не нужно навязывать им своё настроение, свой псевдоопыт и взгляд на жизнь хотя бы потому, что их «тёмной» жизни уже много тысяч лет, а нашей, «просвещённой» – и сотня не наберётся. Однако ж нам и сотни хватило, чтоб душевно разрушиться. Не верите мне, прочтите свой сборник – его написал если ещё и не разрушенный душевно, то смертельно усталый человек. Вот какие невесёлые думы были у меня после прочтения Вашего сборника.
Виктор Астафьев
1972 г.
(Н. Волокитину)
Дорогой Николай!
И я радуюсь тому, что стал ты членом организации, в которой имею честь состоять я и мои товарищи. Да, радуюсь, и не только потому, что, как говорится, руку к сему приложил, но и потому ещё, что верю в нашу захламлённую, не раз уже распроданную с молотка, замордованную и всё-таки живую литературу.
Счёт у нас пока ещё на единицы, однако эти единицы составляют сейчас суть и всё в литературе, и они в большей степени, чем рвущая зубами мясо и деньги приспособленческая орда, влияют на формирование общества, на его совесть, честность и здоровье. Пусть внешне это ещё не столь ощутимо, как хотелось бы, но и не столь ничтожно, чтобы с ним не считались. Во всяком случае, я по себе знаю, как на меня и на моих друзей надеются, ждут многого от нас и боятся, чтобы мы не предали свою душу и перо. А распродать то и другое и прожить лёгкую – вот лёгкую ли?! – жизнь в нашей литературе очень просто.
Вчера появились в газетах портреты Корнейчука с дежурными словами скорби. У меня был как раз режиссёр из Киева и сказал страшную, на мой взгляд, вещь – никто, ни один человек не помянул покойного добрым словом, все почему-то в день его кончины вспоминали о нём мерзости, а сам он, умирая от рака крови, кричал: «Отдам миллион, только спасите!» Вот и ни званья, ни миллионы не нужны сделались, как смерть подступила.